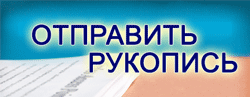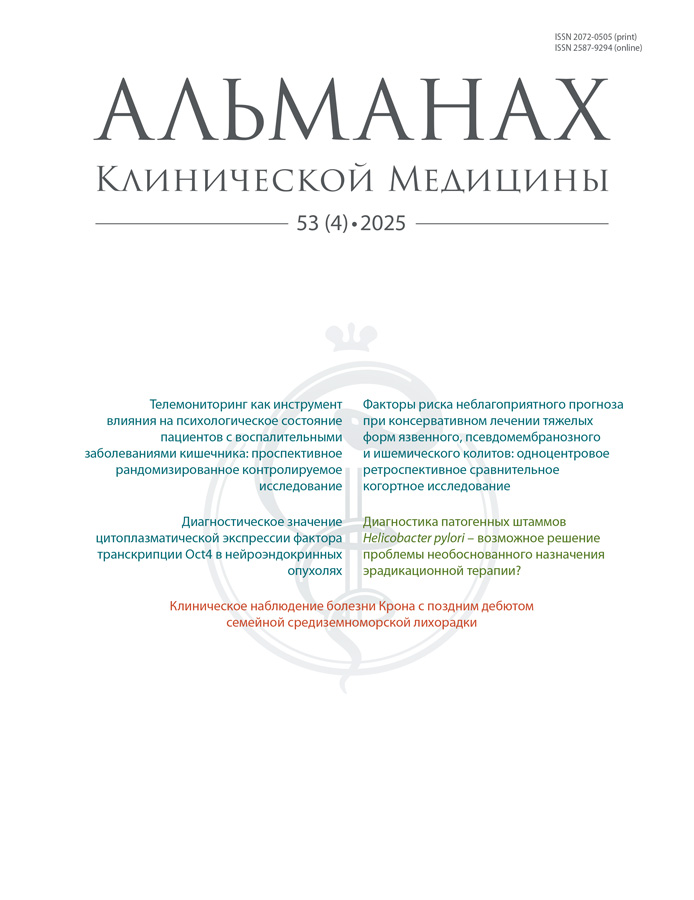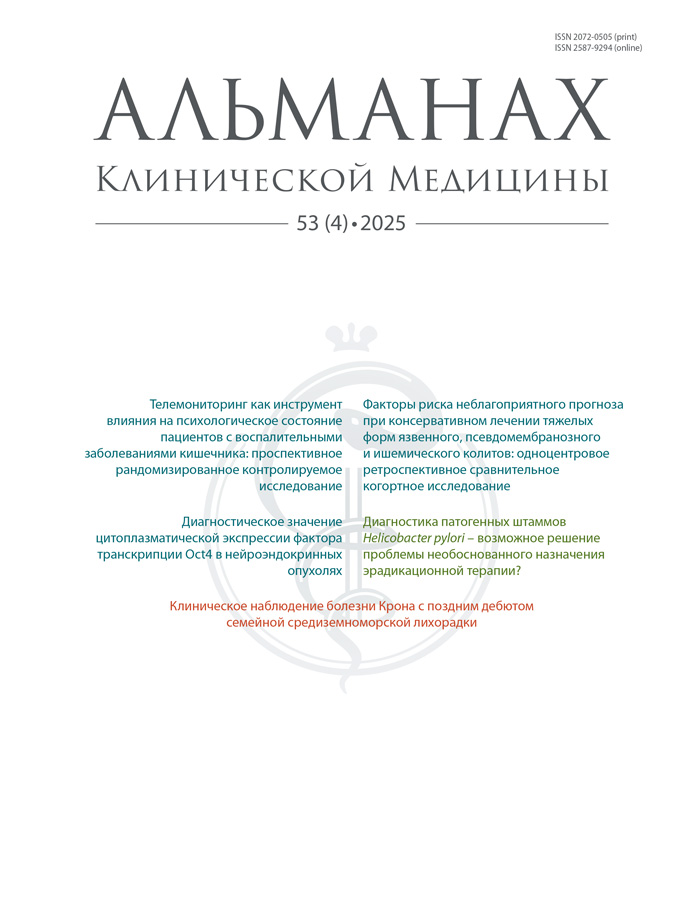Факторы риска неблагоприятного прогноза при консервативном лечении тяжелых форм язвенного, псевдомембранозного и ишемического колитов: одноцентровое ретроспективное сравнительное когортное исследование
- Авторы: Кротов Г.А.1, Данилов М.А.1, Князев О.В.1, Цвиркун В.В.1
-
Учреждения:
- ГБУЗ г. Москвы «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы»
- Выпуск: Том 53, № 4 (2025)
- Страницы: 194-205
- Раздел: ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
- Дата публикации: 24.11.2025
- URL: https://almclinmed.ru/jour/article/view/17519
- DOI: https://doi.org/10.18786/2072-0505-2025-53-020
- ID: 17519
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Введение. Тяжелые формы язвенного (ЯК), псевдомембранозного (ПМК) и ишемического колитов (ИК) часто демонстрируют клинико-морфологическую мимикрию, что затрудняет дифференциальную диагностику. При тяжелых и фульминантных формах наблюдается унификация патоморфологических изменений в стенке толстой кишки, что нивелирует влияние первоначальных этиологических факторов на выбор лечебной тактики. В настоящее время отсутствуют четко определенные клинико-лабораторные критерии, позволяющие прогнозировать неэффективность консервативной терапии при тяжелых формах колитов.
Цель – определить факторы, ассоциированные с неблагоприятным исходом консервативного лечения у пациентов с тяжелыми и фульминантными формами ЯК, ПМК и ИК.
Материал и методы. Проведено одноцентровое ретроспективное сравнительное когортное исследование, в которое были включены пациенты с тяжелыми и фульминантными формами ЯК, ПМК и ИК, получавшие консервативную терапию в ГБУЗ МКНЦ имени А. С. Логинова ДЗМ в период с 2015 по 2024 г. На основании решения мультидисциплинарного консилиума о наличии относительных показаний к операции были сформированы две группы, сопоставимые по полу, возрасту и нозологической форме: основная (n = 36) – пациенты, отказавшиеся от операции и продолжившие консервативное лечение, и контрольная (n = 36) – пациенты, отобранные методом парного подбора из когорты без хирургических показаний.
Результаты. Структура исследуемой когорты по нозологическим формам была следующей: ЯК – 42 пациента, ПМК – 22, ИК – 8. В основной группе фульминантное течение отмечено у 15 пациентов, тогда как в контрольной – у 2 (p < 0,001). У пациентов с относительными показаниями к операции чаще наблюдались синдром системной воспалительной реакции (12 vs 2 случаев; p = 0,003) и летальные исходы (6 vs 0; p = 0,011). Выявлены ключевые независимые предикторы летальности: ПМК (отношение шансов (ОШ) 8,0; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,17–54,50), выраженная полиорганная дисфункция ≥ 4 баллов по шкале SOFA (ОШ 22,0; 95% ДИ 1,54–314,29), наличие операций на толстой кишке в анамнезе (ОШ 20,0; 95% ДИ 1,95–204,73), потребность в массивной инфузии альбумина ≥ 1350 мл, отражающая выраженность системной декомпенсации и интенсивность терапии (ОШ 10,5; 95% ДИ 1,41–78,06), повышение уровня сывороточного креатинина ≥ 102,0 мкмоль/л (ОШ 28,8; 95% ДИ 2,62–315,30) и мочевины ≥ 7,9 ммоль/л (ОШ 40,0; 95% ДИ 3,42–468,07).
Заключение. Таким образом, у пациентов с тяжелыми и фульминантными колитами, получающих консервативную терапию, стратификация риска на основе выявленных предикторов, отражающих степень системной декомпенсации и полиорганной недостаточности, позволяет оптимизировать сроки принятия решения о хирургическом вмешательстве при отсутствии положительной динамики на фоне проводимого лечения.
Полный текст
Клиническая картина острого колита формируется широким спектром нозологических форм [1, 2]. Среди всех нозологий за последнее десятилетие наибольшую социально-экономическую значимость повсеместно приобрели язвенный колит (ЯК), псевдомембранозный колит (ПМК) и ишемический колит (ИК) [3–5]. Данная тенденция обусловлена влиянием множества факторов, включая рост числа дебютов этих заболеваний в период пандемии COVID-19 [6, 7], их клинико-морфологическую мимикрию, трудности прогнозирования динамики, а также отсутствие четких критериев для своевременного хирургического вмешательства.
Прогрессирование колитов до тяжелых и фульминантных форм обусловливает схожесть морфологических проявлений воспалительных и ишемических процессов в стенке толстой кишки, что затрудняет проведение дифференциальной диагностики [8]. В подобных ситуациях нередко используется обобщенный диагноз «эрозивно-язвенный колит тяжелого течения». Такая диагностическая неопределенность повышает риск ошибочной оценки терапевтической резистентности и несвоевременного принятия решения о хирургическом вмешательстве.
Отказ пациента от хирургического вмешательства существенно влияет на решения мультидисциплинарного консилиума, часто приводя к выбору консервативной тактики вопреки относительным показаниям к операции. Продолжение медикаментозного лечения в подобных случаях повышает риск прогрессирования воспалительного процесса и развития жизнеугрожающих осложнений.
Цель данного исследования – определить факторы, ассоциированные с неблагоприятным исходом консервативного лечения у пациентов с тяжелыми и фульминантными формами ЯК, ПМК и ИК.
Материал и методы
Дизайн и место проведения. Проведено одноцентровое ретроспективное сравнительное когортное исследование на базе ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр имени А. С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ МКНЦ имени А. С. Логинова ДЗМ). Анализу подлежали данные госпитализированных пациентов за период с 1 января 2015 по 31 декабря 2024 г. Сбор и обработка информации, включая статистический анализ, были выполнены в 2025 г.
Наблюдение за пациентами проводилось в течение всего срока их госпитализации. В качестве конечных точек наблюдения были определены выписка из стационара или наступление летального исхода.
Этические аспекты. Дизайн исследования соответствовал этическим стандартам Хельсинкской декларации (2024 г.). Исследование было одобрено локальным этическим комитетом ГБУЗ МКНЦ имени А. С. Логинова ДЗМ (выписка из протокола № 12 от 15.02.2024). Все пациенты или их законные представители подписали информированное согласие на использование обезличенных клинических данных в научных целях. Конфиденциальность персональной информации обеспечивалась в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Критерии включения. В исследование включали пациентов старше 18 лет с клинически и морфологически верифицированными диагнозами ЯК, ПМК и ИК тяжелого или фульминантного течения, получавших консервативную терапию.
Критерии невключения. В исследование не включали пациентов с легкими и среднетяжелыми формами ЯК, ПМК и ИК, болезнью Крона, специфическими колитами иной этиологии (туберкулезным, цитомегаловирусным, нейтропеническим, радиационным и др.), а также беременных и женщин в период лактации.
Оценка тяжести колитов. Тяжесть ЯК определяли по критериям Truelove–Witts в редакции Американской коллегии гастроэнтерологов (англ. American College of Gastroenterology, ACG, 2019): тяжелое течение – частота стула ≥ 6 раз в сутки при наличии ≥ 2 признаков синдрома системной воспалительной реакции (ССВР): температура тела > 38 °C или < 36 °C; тахикардия > 90 уд/мин; тахипноэ > 20 в минуту; лейкоцитоз > 12 × 10⁹/л или лейкопения < 4 × 10⁹/л в сочетании с повышением С-реактивного белка (СРБ) > 100 мг/л. Фульминантное течение констатировали при частоте стула > 10 раз в сутки, выраженной интоксикации, электролитных нарушениях и дилатации толстой кишки [9].
Тяжесть ПМК определяли по классификации Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных болезней (англ. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, ESCMID, 2021): тяжелое течение – лейкоцитоз ≥ 15 × 10⁹/л или лейкопения < 4 × 10⁹/л в сочетании с повышением уровня креатинина более чем в 1,5 раза относительно нормы; фульминантное течение – наличие гипотензии, шока, илеуса или токсического мегаколона [10].
Тяжесть ИК определяли по критериям ACG (2015): тяжелое течение – абдоминальный болевой синдром в сочетании с признаками ССВР и ишемическими изменениями по данным компьютерной томографии (КТ); фульминантное течение – развитие некроза, перфорации или перитонита [11].
Рабочее определение фульминантного течения во всех трех нозологических формах формулировали как быстропрогрессирующее состояние, сопровождающееся нарастанием ССВР и признаков полиорганной дисфункции в течение ≤ 72 часов от начала клинической декомпенсации [12]. Для количественной объективизации степени органной недостаточности применяли шкалу Sequential Organ Failure Assessment (SOFA), отражающую уровень нарушения функций жизненно важных систем – дыхательной, сердечно-сосудистой, печеночной, почечной и коагуляционной. Значения SOFA ≥ 2 баллов соответствовали клинически значимой органной недостаточности, а SOFA ≥ 4 баллов – выраженной полиорганной дисфункции и повышенному риску неблагоприятного исхода [13].
Источники данных. Данные были получены из Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) г. Москвы и внутреннего архива ГБУЗ МКНЦ имени А. С. Логинова ДЗМ. Использованы сведения о назначенной терапии, лабораторных и инструментальных исследованиях, консультациях смежных специалистов. Поток включения и распределения пациентов по группам представлен на рис. 1.
Потоковая диаграмма включения пациентов и распределения по группам. ИК – ишемический колит, ПМК – псевдомембранозный колит, ЯК – язвенный колит
Формирование групп. После применения критериев включения и невключения была сформирована исходная когорта, которая состояла из 200 пациентов с тяжелыми и фульминантными формами ЯК, ПМК и ИК.
В основную группу вошли 36 пациентов, у которых по решению мультидисциплинарного консилиума были установлены относительные показания к хирургическому вмешательству, но которые отказались от его выполнения и продолжили курс консервативной терапии. Во всех случаях отказ от предложенного оперативного лечения был оформлен письменно и приложен к медицинской документации.
Контрольная группа (n = 36) была сформирована методом попарного подбора (1:1) из оставшихся 164 пациентов, не имевших показаний к хирургическому лечению. Подбор пар проводился по следующим критериям: пол, возраст (± 5 лет), нозологическая форма и период госпитализации (для минимизации временного смещения).
В результате проведенного подбора между основной и контрольной группами не было выявлено статистически значимых различий по основным демографическим и клиническим характеристикам, что подтверждает сопоставимость групп (p > 0,05).
Определение относительных показаний к операции. Под относительными показаниями понимали клинико-лабораторные признаки неэффективности интенсивной медикаментозной терапии при отсутствии признаков перфорации, перитонита или некроза кишечной стенки. К таким признакам относили отсутствие положительной динамики в течение 48–72 часов лечения, нарастание маркеров системного воспалительного ответа – лейкоцитоз > 15 × 10⁹/л и/или повышение уровня СРБ > 100 мг/л, выраженную гипоальбуминемию (< 25 г/л), развитие токсической дилатации толстой кишки, а также ухудшение состояния по шкале SOFA на ≥ 2 балла относительно исходного уровня [10, 14, 15].
Мониторинг параметров и критерии оценки эффективности. Для объективной оценки динамики состояния пациентов и своевременного выявления неэффективности консервативной терапии мониторинг проводили в трех ключевых временны`х точках: на момент госпитализации (сбор анамнестических данных, включая демографические характеристики, коморбидность и хирургический анамнез, а также первичное лабораторно-инструментальное обследование), в интервале 48–72 часов от начала интенсивной терапии (динамическая оценка клинических, лабораторных и интегральных показателей для определения ответа на лечение) и при наступлении конечной точки наблюдения (выписка из стационара или летальный исход).
Статистический анализ. Для формирования сопоставимых групп использовали метод попарного подбора (1:1 matching) с учетом ключевых ковариат: пол, возраст (± 5 лет), нозологическая форма и период госпитализации. Нормальность распределения количественных показателей оценивали с помощью критерия Шапиро – Уилка. Параметрические данные представлены как среднее ± стандартное отклонение (M ± SD), непараметрические – как медиана с интерквартильным диапазоном (Me [Q1–Q3]). Качественные переменные – абсолютные и относительные частоты (n, %). Для сравнения независимых групп при нормальном распределении применяли t-критерий Стьюдента (при гетерогенности дисперсий – с поправкой Уэлча), при ненормальном – U-критерий Манна – Уитни. Ассоциации между категориальными переменными анализировали с помощью χ²-критерия Пирсона или точного теста Фишера (для малых выборок). Прогностические факторы оценивали методом бинарной логистической регрессии с расчетом отношения шансов (ОШ) и 95% доверительного интервала (ДИ).
Обоснование мощности и обнаруживаемых эффектов. Предварительный расчет размера выборки не выполняли в связи с ретроспективным дизайном исследования. Для оценки возможности выявления статистически значимых различий между группами (по 36 наблюдений в каждой) был проведен ретроспективный анализ статистической мощности. При условии двустороннего уровня значимости α = 0,05 и мощности 80% (для количественных показателей) двухвыборочный t-критерий позволяет детектировать различия величиной d ≈ 0,67 (критерий d Коэна), что соответствует эффекту от среднего до крупного. Для качественных признаков при тех же условиях минимально обнаружимая абсолютная разница между долями составляет приблизительно 0,19 при базовой доле 0,20; 0,24 – при 0,30; 0,30 – при 0,50.
Анализ ассоциаций и независимости эффектов. Прогностические факторы первично оценивали по нескорректированным ОШ с 95% ДИ (метод Вулфа; при нулевых ячейках – коррекция Хэлдейна – Анскомба) и p-значениям по точному тесту Фишера. Затем строили многовариантную логистическую регрессию с одновременным включением всех предикторов (метод одновременного включения, без пошагового отбора) для получения скорректированных ОШ. Учитывая малое число событий, в анализе чувствительности применяли пенализованную (ридж) логистическую регрессию, снижающую риск переобучения и нестабильности оценок при ограниченном числе исходов. Согласованность направлений и величин эффектов между моделями, согласованность знаков коэффициентов регрессии (β) и направлений ассоциаций (ОШ > 1 или ОШ < 1), а также сопоставимость величин скорректированных ОШ между стандартной и ридж-регрессионной моделями трактовали как индикаторы устойчивости результатов.
Статистическую значимость устанавливали при p ≤ 0,05 (двусторонние критерии).
Все расчеты выполнены в Jamovi v.2.3.28 (Windows).
Результаты
Между основной и контрольной группами не было выявлено статистически значимых различий по индексу массы тела (ИМТ), протяженности поражения толстой кишки, наличию сопутствующей патологии, а также по данным анамнеза – перенесенной COVID-19-инфекции и ранее выполненным резекционным вмешательствам на толстой кишке (табл. 1). Последние учитывались как потенциальный фактор, влияющий на мезентериальный кровоток и развитие приобретенных сосудистых аномалий, способных утяжелять течение заболевания. Частота фульминантного (быстропрогрессирующего) течения заболевания была статистически значима в основной группе – у 15 человек vs 2 в контрольной группе (p < 0,001). Протяженность поражения толстой кишки оценивали по данным эндоскопического и КТ-исследований. Правосторонние и сегментарные формы выявлены исключительно при ИК – в 5 из 8 наблюдений (62,5%; правосторонние – 3/8, сегментарные – 2/8). Для сравнения: при ЯК преобладали левосторонние и тотальные формы поражения – 42 из 42 случаев (левосторонние – 2/42, тотальные – 40/42), при ПМК – 22 из 22 (левосторонние – 3/22, тотальные – 19/22). Различия между нозологическими формами статистически значимы (p < 0,001).
Таблица 1. Основные характеристики пациентов с тяжелыми формами колитов, имевших и не имевших показаний к хирургическому лечению (n = 72)
Показатель | Пациенты с показаниями к операции (n = 36) | Пациенты без показаний к операции (n = 36) | Всего (n = 72) | Значение p |
Возраст, полных лет, Me [Q1–Q3] | 0,517* | |||
Возрастная категория, полных лет, n (%): | 0,197** | |||
< 25 | 6 (16,7) | 1 (2,8) | 7 (9,7) | |
25–49 | 10 (27,8) | 9 (25,0) | 19 (26,4) | |
50–74 | 14 (38,9) | 20 (55,6) | 34 (47,2) | |
≥ 75 | 6 (16,7) | 6 (16,7) | 12 (16,7) | |
Пол, n (%): | 0,237** | |||
мужской | 17 (47,2) | 22 (61,1) | 39 (54,2) | |
женский | 19 (52,8) | 14 (38,9) | 33 (45,8) | |
ИМТ, кг/м2, Me [Q1–Q3] | 0,551* | |||
Категория ИМТ, кг/м2, n (%): | 0,715** | |||
< 16,0 | 3 (8,3) | 1 (2,8) | 4 (5,6) | |
16,0–16,9 | 3 (8,3) | 1 (2,8) | 4 (5,6) | |
17,0–18,4 | 6 (16,7) | 8 (22,2%) | 14 (19,4) | |
18,5–24,9 | 18 (50,0) | 17 (47,2) | 35 (48,6) | |
25,0–29,9 | 4 (11,1) | 6 (16,7) | 10 (13,9) | |
30,0–34,9 | 2 (5,6) | 2 (5,6) | 4 (5,6) | |
35,0–39,9 | 0 | 0 | 0 | |
≥ 40,0 | 0 | 1 (2,8) | 1 (1,4) | |
Сопутствующая патология, n (%) | 27 (75,0) | 29 (80,6) | 56 (77,8) | 0,571** |
Перенесенная COVID-19-инфекция, n (%) | 11 (30,6) | 11 (30,6) | 22 (30,6) | 1,000*** |
Период от COVID-19 до госпитализации, месяцы, Me [Q1–Q3] | 0,843* | |||
Колит, n (%): | 0,871** | |||
язвенный | 22 (61,1) | 20 (55,6) | 42 (58,3) | |
псевдомембранозный | 10 (27,8) | 12 (33,3) | 22 (30,6) | |
ишемический | 4 (11,1) | 4 (11,1) | 8 (11,1) | |
Операции на толстой кишке, n (%) | 11 (30,6) | 9 (25,0) | 20 (27,8) | 0,599*** |
Степень тяжести колита, n (%): | < 0,001*** | |||
тяжелое течение | 21 (58,3) | 34 (94,4) | 55 (76,4) | |
фульминантное течение | 15 (41,7) | 2 (5,6) | 17 (23,6) | |
Протяженность поражения, n (%): | 0,950** | |||
правостороннее | 1 (2,8) | 2 (5,6) | 3 (4,2) | |
сегментарное | 1 (2,8) | 1 (2,8) | 2 (2,8) | |
левостороннее | 3 (8,3) | 3 (8,3) | 6 (8,3) | |
тотальное | 31 (86,1) | 30 (83,3) | 61 (84,7) | |
ИМТ – индекс массы тела
Данные представлены в виде медианы и квартилей (Me [Q1–Q3]) или абсолютного числа пациентов (n) и их доли в группе (%). p – двусторонние уровни статистической значимости различий между группами
* U-критерий Манна – Уитни
** Критерий χ² Пирсона
*** Точный критерий Фишера
При первичном обследовании пациентов с тяжелыми формами ЯК, ПМК и ИК статистически значимых различий в клинической картине и данных КТ между группами с относительными показаниями к операции и без таковых не выявлено (p > 0,05). Однако при эндоскопическом исследовании установлена статистически значимо более высокая частота язвенных дефектов слизистой толстой кишки в группе с показаниями к хирургическому вмешательству (25 из 36 vs 16 из 36; p = 0,032). Различия между группами по частоте толстокишечных осложнений (кровотечение – 4 из 36 vs 2 из 36, p = 0,394; дилатация толстой кишки – по 2 из 36 в каждой группе, p = 1,000) и основным лабораторным показателям не достигли статистической значимости, за исключением тенденции к более выраженной гипоальбуминемии в основной группе (25,0 ± 7,0 vs 27,5 ± 5,5 г/л; p = 0,098). У пациентов с относительными показаниями к операции статистически значимо чаще развивался ССВР (12 vs 2; p = 0,003) и регистрировались летальные исходы (6 vs 0; p = 0,011) (табл. 2).
Таблица 2. Общие результаты лечения пациентов с тяжелыми формами колитов, имевших и не имевших показаний к хирургическому лечению (n = 72)
Показатель | Пациенты с показаниями к операции (n = 36) | Пациенты без показаний к операции (n = 36) | Всего (n = 72) | Значение p |
Терапия в ОРИТ, n (%) | 19 (52,8) | 11 (30,6) | 30 (41,7) | 0,056* |
Число койко-дней в ОРИТ, Me [Q1–Q3] | 0,407** | |||
Максимальный балл SOFA в ОРИТ, Me [Q1–Q3] | 0,353** | |||
Плевральная пункция, n (%) | 4 (11,1) | 1 (2,8) | 5 (6,9) | 0,164*** |
Парацентез, n (%) | 2 (5,6) | 2 (5,6) | 4 (5,6) | 1,000*** |
Лихорадка, n (%) | 14 (38,9) | 9 (25,0) | 23 (31,9) | 0,206*** |
Синдром системной воспалительной реакции, n (%) | 12 (33,3) | 2 (5,6) | 14 (19,4) | 0,003*** |
Число койко-дней в стационаре, Me [Q1–Q3] | 0,942** | |||
Присоединение COVID-19-инфекции, n (%) | 3 (8,3) | 2 (5,6) | 5 (6,9) | 0,643*** |
Летальный исход, n (%) | 6 (16,7) | 0 | 6 (8,3) | 0,011*** |
SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) – шкала оценки степени органной недостаточности, ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии
Данные представлены в виде медианы и квартилей (Me [Q1–Q3]) или абсолютного числа пациентов (n) и их доли в группе (%). p – двусторонние уровни статистической значимости различий между группами
* Критерий χ² Пирсона
** U-критерий Манна – Уитни
*** Точный критерий Фишера
Поскольку все летальные исходы были зарегистрированы среди пациентов с относительными показаниями к операции, продолживших консервативную терапию, для выявления предикторов неблагоприятного прогноза данная группа (n = 36) была стратифицирована на подгруппы: умершие в стационаре (n = 6) и выписанные в удовлетворительном состоянии (n = 30).
При анализе исходных характеристик подгрупп статистически значимых различий по демографическим показателям, ИМТ, сопутствующей патологии и частоте перенесенной COVID-19-инфекции не выявлено (p > 0,05). При сравнении частоты летальных исходов в зависимости от нозологической формы колита установлены статистически значимые различия (p = 0,032). Post-hoc-анализ с поправкой на множественные сравнения показал, что различия были обусловлены более высокой частотой летальных исходов среди пациентов с ПМК по сравнению с пациентами с ЯК (p1–2 = 0,031). Кроме того, пациенты подгруппы с летальными исходами значительно чаще имели в анамнезе операции на толстой кишке – лево- или правосторонние гемиколэктомии, сигмоидэктомии (5 из 6 vs 6 из 30; 83,3% vs 20,0%; p = 0,006) (табл. 3).
Таблица 3. Основные характеристики пациентов с тяжелыми формами колитов с показаниями к хирургическому лечению в зависимости от исхода госпитализации (n = 36)
Показатель | Умершие в стационаре (n = 6) | Выписанные (n = 30) | Всего (n = 36) | Значение p |
Возраст, полных лет, Me [Q1–Q3] | 0,766* | |||
Возрастная категория, полных лет, n (%): | 0,289** | |||
< 25 | 1 (16,7) | 5 (16,7) | 6 (16,7) | |
25–49 | 0 | 10 (33,3) | 10 (27,8) | |
50–74 | 4 (66,7) | 10 (33,3) | 14 (38,9) | |
≥ 75 | 1 (16,7) | 5 (16,7) | 6 (16,7) | |
Пол, n (%): | 0,881*** | |||
мужской | 3 (50,0) | 14 (46,7) | 17 (47,2) | |
женский | 3 (50,0) | 16 (53,3) | 19 (52,8) | |
ИМТ, кг/м2, Me [Q1–Q3] | 0,243* | |||
Категория ИМТ, кг/м2, n (%): | 0,094** | |||
< 16,0 | 1 (16,7) | 2 (6,7) | 3 (8,3) | |
16,0–16,9 | 0 | 3 (10,0) | 3 (8,3) | |
17,0–18,4 | 1 (16,7) | 5 (16,7) | 6 (16,7) | |
18,5–24,9 | 1 (16,7) | 17 (56,7) | 18 (50,0) | |
25,0–29,9 | 2 (33,3) | 2 (6,7) | 4 (11,1) | |
30,0–34,9 | 1 (16,7) | 1 (3,3) | 2 (5,6) | |
35,0–39,9 | 0 | 0 | 0 | |
≥ 40,0 | 0 | 0 | 0 | |
Сопутствующая патология, n (%) | 6 (100,0) | 21 (70,0) | 27 (75,0) | 0,303*** |
Перенесенная COVID-19-инфекция, n (%) | 3 (50,0) | 8 (26,7) | 11 (30,6) | 0,343*** |
Период от COVID-19 до госпитализации, месяцы, Me [Q1–Q3] | 0,215* | |||
Колит, n (%): | 0,032** | |||
язвенный | 1 (16,7) | 21 (70,0) | 22 (61,1) | |
псевдомембранозный | 4 (66,7) | 6 (20,0) | 10 (27,8) | |
ишемический | 1 (16,7) | 3 (10,0) | 4 (11,1) | |
Операции на толстой кишке, n (%) | 5 (83,3) | 6 (20,0) | 11 (30,6) | 0,006*** |
Степень тяжести колита, n (%): | 0,063*** | |||
тяжелое течение | 1 (16,7) | 20 (66,7) | 21 (58,3) | |
фульминантное течение | 5 (83,3) | 10 (33,3) | 15 (41,7) | |
Протяженность поражения, n (%): | 0,360** | |||
правостороннее | 1 (16,7) | 0 | 1 (2,8) | |
сегментарное | 0 | 1 (3,3) | 1 (2,8) | |
левостороннее | 0 | 3 (10,0) | 3 (8,3) | |
тотальное | 5 (83,3) | 26 (86,7) | 31 (86,1) |
ИМТ – индекс массы тела
Данные представлены в виде медианы и квартилей (Me [Q1–Q3]) или абсолютного числа пациентов (n) и их доли в группе (%). p – двусторонние уровни статистической значимости различий между группами
* U-критерий Манна – Уитни
** Критерий χ² Пирсона
*** Точный критерий Фишера
При сравнительном анализе клинических и эндоскопических данных статистически значимых различий между подгруппами не выявлено. По данным КТ у пациентов с летальным исходом отмечалось утолщение стенки толстой кишки на границе статистической значимости (12,0 [12, 0–13, 0] vs 8,5 [8, 0–12, 0] мм; p = 0,050). Различия между подгруппами по частоте толстокишечных осложнений (кровотечение, дилатация) не достигли статистической значимости (p > 0,05). В то же время у пациентов с летальным исходом отмечались статистически значимо более высокие уровни сывороточного креатинина (178,5 [120, 3–239, 0] vs 74,6 [62, 5–91, 5] мкмоль/л; p = 0,016) и мочевины (18,5 [9, 8–24, 1] vs 4,1 [2, 5–5, 9] ммоль/л; p = 0,001), а также выраженная тенденция к метаболическому ацидозу (pH 7,33 ± 0,04 vs 7,43 ± 0,04; p = 0,002).
При анализе параметров трансфузионно-инфузионной терапии статистически значимых различий между подгруппами по частоте гемотрансфузий и инфузионных вмешательств не обнаружено (p > 0,05). Переливание эритроцитарной массы выполнено у 3 из 5 (60,0%) пациентов с летальным исходом и у 9 из 30 (30,0%) выписанных больных (p = 0,313), а свежезамороженной плазмы – у 4 из 5 (80,0%) и 10 из 30 (33,3%) соответственно (p = 0,134). Следует отметить, что у одного пациента из подгруппы с летальным исходом отсутствовали сведения о проведении трансфузий, что объясняет различие в числе наблюдений (n = 5 вместо 6). Отсутствие статистической значимости не свидетельствует о сопоставимости частот; вероятно, отмечаемая тенденция отражает более частое применение трансфузий у пациентов с неблагоприятным исходом.
Средний объем перелитой эритроцитарной массы составил 1348,0 ± 451,8 vs 563,0 ± 171,2 мл (p = 0,089), а плазмы – 1195,0 ± 713,7 vs 986,5 ± 603,9 мл (p = 0,588). Инфузия альбумина проводилась у всех пациентов с летальным исходом (6 из 6; 100%) и у 25 из 30 (83,3%) больных с благоприятным исходом (p = 0,564). При этом у пациентов с летальным исходом отмечен статистически значимо больший объем введенного альбумина – 1700,0 [1050, 0–2650, 0] vs 600,0 [400, 0–1100, 0] мл (p = 0,014). Исходный уровень сывороточного альбумина статистически не различался между подгруппами – 24,8 ± 6,2 vs 25,7 ± 5,9 г/л (p = 0,714). Таким образом, различия касались главным образом объема альбуминовой инфузии, что может рассматриваться как косвенный показатель интенсивности терапии и отражать более тяжелое течение заболевания.
Все пациенты с неблагоприятным исходом получали лечение в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) – 6 из 6 vs 13 из 30 пациентов (p = 0,020). ССВР диагностирован у всех пациентов с летальным исходом, тогда как среди выписанных – лишь у 6 из 30 (p < 0,001). У пациентов с летальным исходом регистрировались статистически значимо более высокие показатели по шкале SOFA (10,4 ± 6,6 vs 2,2 ± 1,4 балла; p = 0,048). У одного пациента из подгруппы с летальным исходом и двух из подгруппы выписанных оценка по шкале SOFA отсутствовала вследствие неполного документирования данных интенсивной терапии, что было учтено при расчетах (n = 5 и n = 28 соответственно). В двух случаях (33,3%) потребовалось выполнение лапароцентеза (в подгруппе выписанных пациентов – 0; p = 0,024) по поводу напряженного асцита, развившегося на фоне выраженной гипоальбуминемии и токсинемии при тяжелом ПМК. У трех пациентов во время госпитализации впервые диагностирована COVID-19-инфекция, что послужило основанием для перевода в специализированный инфекционный стационар (табл. 4).
Таблица 4. Общие результаты лечения пациентов с тяжелыми формами колитов с показаниями к хирургическому лечению в зависимости от исхода госпитализации (n = 36)
Показатель | Умершие в стационаре (n = 6) | Выписанные (n = 30) | Всего (n = 36) | Значение p |
Терапия в ОРИТ, n (%) | 6 (100,0) | 13 (43,3) | 19 (52,8) | 0,020* |
Число койко-дней в ОРИТ, Me [Q1–Q3] | 0,188** | |||
Максимальный балл SOFA в ОРИТ, Me [Q1–Q3] | 0,048** | |||
Плевральная пункция, n (%) | 2 (33,3) | 2 (6,7) | 4 (11,1) | 0,121* |
Лапароцентез, n (%) | 2 (33,3) | 0 | 2 (5,6) | 0,024* |
Лихорадка, n (%) | 4 (66,7) | 10 (33,3) | 14 (38,9) | 0,181* |
Синдром системной воспалительной реакции, n (%) | 6 (100,0) | 6 (20,0) | 12 (33,3) | < 0,001* |
Число койко-дней в стационаре, Me [Q1–Q3] | 0,433** | |||
Присоединение COVID-19-инфекции, n (%) | 1 (16,7) | 2 (6,7) | 3 (8,3) | 0,431* |
SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) – шкала оценки степени органной недостаточности, ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии
Данные представлены в виде медианы и квартилей (Me [Q1–Q3]) или абсолютного числа пациентов (n) и их доли в группе (%). p – двусторонние уровни статистической значимости различий между группами
* Точный критерий Фишера
** U-критерий Манна – Уитни
Для регрессионного анализа количественные показатели оценивали как в дихотомизированном, так и в исходном (непрерывном) виде. В качестве пороговых значений использованы эмпирически и клинически обоснованные критерии: SOFA ≥ 4 баллов, объем инфузии альбумина ≥ 1350 мл, сывороточный креатинин ≥ 102,0 мкмоль/л, мочевина ≥ 7,9 ммоль/л. На первом этапе рассчитывали нескорректированные ОШ с 95% ДИ; на втором – строили многовариантную логистическую модель с одновременным включением всех предикторов (без пошагового отбора) для получения скорректированных ОШ. С учетом малого числа летальных исходов (n = 6) и возможного эффекта частичной сепарации дополнительно проведена пенализованная (ридж) логистическая регрессия, подтвердившая устойчивость направлений и относительной величины эффектов (табл. 5).
Таблица 5. Результаты бинарного логистического регрессионного анализа факторов, ассоциированных с вероятностью летального исхода
Фактор риска | ОШ нескорретированное (95% ДИ) | Значение p | ОШ скорректированное (95% ДИ) | ОШ (ридж-модель)* |
Псевдомембранозный колит | 8,0 (1,2–54,5) | 0,034 | 7,9 (1,1–53,0) | 8,1 |
≥ 4 балла по шкале SOFA в ОРИТ | 22,0 (1,5–314,3) | 0,023 | 21,5 (1,5–310,0) | 20,9 |
Инфузия альбумина ≥ 1350 мл | 10,5 (1,4–78,1) | 0,022 | 9,8 (1,3–75,0) | 10,1 |
Операции на толстой кишке в анамнезе | 20,0 (2,0–204,7) | 0,012 | 19,2 (1,8–200,0) | 18,7 |
Сывороточный креатинин ≥ 102,0 мкмоль/л | 28,8 (2,6–315,3) | 0,006 | 27,9 (2,5–310,0) | 28,2 |
Сывороточная мочевина ≥ 7,9 мкмоль/л | 40,0 (3,4–468,1) | 0,003 | 38,7 (3,2–460,0) | 39,4 |
SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) – шкала оценки степени органной недостаточности, ДИ – доверительный интервал, ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии, ОШ – отношение шансов
Нескорректированные ОШ рассчитаны по однофакторным моделям с p по точному тесту Фишера. Скорректированные ОШ – из многовариантной логистической модели с одновременным включением всех предикторов
* ОШ (ридж-модель) – устойчивые скорректированные оценки, полученные пенализованной (ридж) логистической регрессией; ДИ не приводятся ввиду пенализации и малого числа событий
И однофакторные, и многовариантные оценки подтвердили 6 независимых предикторов, статистически значимо ассоциированных с повышенной вероятностью летального исхода: нозологическая форма колита, соответствующая ПМК; выраженная полиорганная дисфункция (≥ 4 баллов по шкале SOFA); массивная инфузия альбумина (≥ 1350 мл); наличие операций на толстой кишке в анамнезе; повышение сывороточного уровня креатинина (≥ 102,0 мкмоль/л); повышение сывороточного уровня мочевины (≥ 7,9 ммоль/л) по сравнению с референсными значениями.
Обсуждение
По данным литературы, летальность при тяжелых и фульминантных формах колитов достигает 10–30% [1, 16]. В настоящем исследовании прослеживалась аналогичная закономерность: неблагоприятные исходы ассоциировались с выраженной полиорганной дисфункцией (SOFA ≥ 4), необходимостью массивной инфузионной терапии, включая альбумин, и нозологической формой ПМК. Указанные факторы отражают не только тяжесть ССВР, но и глубину исходных нарушений гомеостаза, определяющих риск системной декомпенсации.
Нозологическая форма заболевания оказалась одним из ключевых прогностических факторов. ПМК, в отличие от ЯК и ИК, характеризуется системной токсинемией, обусловленной действием токсинов Clostridioides difficile, вызывающих как локальное, так и системное повреждение эндотелия и микрососудистого русла. Как показывают ранее проведенные исследования, при ПМК чаще наблюдаются выраженный ССВР, гипоальбуминемия и микроциркуляторные расстройства, способствующие развитию полиорганной недостаточности [17]. В нашем исследовании ПМК демонстрировал независимую связь с летальным исходом (ОШ 8,0; 95% ДИ 1,17–54,50; p = 0,034), что соответствует опубликованным данным о более тяжелом течении и худших исходах при инфекции, вызванной Clostridioides difficile [18].
Развитие выраженной полиорганной дисфункции закономерно сопровождалось ростом летальности. Порог SOFA ≥ 4 отражал критическую степень органной недостаточности, что согласуется с современными представлениями о ведущей роли системной декомпенсации в патогенезе критических воспалительных состояний [19]. Прогрессирование воспаления сопровождается нарушением микроциркуляции, метаболическим ацидозом, гиповолемией и гипопротеинемией, что требует проведения интенсивной инфузионной терапии [20]. В этом контексте объем альбуминовой инфузии отражает не столько лечебную тактику, сколько тяжесть системного воспалительного ответа.
Выявленная зависимость между объемом инфузии альбумина ≥ 1350 мл и летальностью (ОШ 10,5; 95% ДИ 1,41–78,06) не указывает на неблагоприятный эффект терапии, а отражает выраженность системной декомпенсации. При сопоставимых исходных уровнях сывороточного альбумина больший объем инфузии у пациентов с неблагоприятным исходом, вероятно, связан с динамической гипоальбуминемией, обусловленной синдромом капиллярной утечки и гиперкатаболизмом. Известно, что уровень сывороточного альбумина при тяжелых формах воспалительных заболеваний кишечника характеризует не столько нутритивный статус, сколько выраженность ССВР и эндотелиальной дисфункции [21, 22]. Повышенная потребность в альбумине у таких пациентов служит косвенным показателем прогрессирующего сосудистого повреждения и нарушения белкового гомеостаза плазмы. Аналогичные механизмы описаны в исследовании B. Saravi и соавт. (2023), рассматривающих синдром капиллярной утечки как ключевое звено ССВР при критических состояниях [23]. Следовательно, объем инфузии альбумина ≥ 1350 мл может служить клиническим индикатором тяжести и интенсивности ССВР, но не самостоятельным фактором риска летальности.
Дополнительными маркерами системной декомпенсации выступали повышенные уровни сывороточного креатинина (≥ 102,0 мкмоль/л) и мочевины (≥ 7,9 ммоль/л), отражающие развитие почечной дисфункции в структуре полиорганной недостаточности. Эти биохимические сдвиги формируются на фоне гипоперфузии, эндотелиальной дисфункции и выраженного катаболизма [24]. Их прогностическая значимость при тяжелых формах воспалительных заболеваний кишечника подтверждена и другими авторами [25]. В этой связи рост азотистых метаболитов следует трактовать как интегральный маркер системной органной недостаточности, а не изолированного поражения почек.
Наличие резекционных операций на толстой кишке в анамнезе также ассоциировалось с неблагоприятным прогнозом (ОШ 20,0; 95% ДИ 1,95–204,7; p = 0,012). После резекционных вмешательств формируются стойкие перфузионные изменения – ремоделирование сосудистого русла, снижение коллатерального кровотока, развитие спаечного процесса и хроническая гипоперфузия [26]. Эти изменения в сочетании с нарушением моторики и микробиоты способствуют транслокации токсинов и усилению ССВР [27].
В совокупности выявленные факторы риска образуют взаимосвязанную патофизиологическую цепь, основанную на системном воспалении, эндотелиальной дисфункции и тканевой гипоперфузии. ПМК инициирует токсико-воспалительный каскад, сопровождающийся повышением сосудистой проницаемости и развитием синдрома капиллярной утечки. Потеря внутрисосудистого объема жидкости и гипопротеинемия приводят к снижению онкотического давления, тканевой гипоксии и активации катаболических процессов, сопровождающихся повышением уровней креатинина и мочевины. На этом фоне формируется полиорганная дисфункция, а предшествующие хирургические вмешательства усиливают уязвимость микроциркуляторного русла. Данная модель системной декомпенсации согласуется с современными представлениями о мультиорганном вовлечении при воспалительных заболеваниях кишечника [28, 29].
Основные ограничения настоящего исследования – ретроспективный дизайн, одноцентровая выборка и небольшое число событий (6 летальных исходов), что повышает риск нестабильности регрессионных коэффициентов и смещения при избыточной параметризации моделей. Для снижения указанных рисков применен следующий подход: 1) отказ от пошагового отбора в пользу одновременного включения заранее определенных предикторов; 2) оценка устойчивости эффектов с использованием пенализованной (ридж) логистической регрессии; 3) повторный анализ непрерывных предикторов без дихотомизации, продемонстрировавший согласованность направлений эффектов. Представленные результаты следует трактовать как гипотезоформирующие и требующие валидации в более крупных проспективных исследованиях.
Заключение
В одноцентровом ретроспективном исследовании у пациентов с тяжелыми и фульминантными формами ЯК, ПМК и ИК выявлены клинико-лабораторные предикторы неблагоприятного исхода консервативного лечения. Независимыми факторами риска летальности явились нозологическая форма, соответствующая ПМК; выраженная полиорганная дисфункция (SOFA ≥ 4); наличие операций на толстой кишке в анамнезе; повышение сывороточных уровней креатинина (≥ 102,0 мкмоль/л) и мочевины (≥ 7,9 ммоль/л). Более высокий суммарный объем инфузии альбумина (≥ 1350 мл) также ассоциировался с летальным исходом и отражал выраженность ССВР и синдрома капиллярной утечки.
Полученные результаты имеют практическое значение для ранней стратификации риска и выбора тактики ведения пациентов. Сочетание ПМК, выраженной полиорганной дисфункции (SOFA ≥ 4) и признаков нарастания почечной недостаточности следует рассматривать как сигнал к усилению мониторинга в условиях ОРИТ и пересмотру консервативной терапии в пользу хирургического вмешательства при отсутствии положительной динамики.
Дополнительная информация
Финансирование
Исследование проведено без привлечения дополнительного финансирования со стороны третьих лиц.
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Участие авторов
Г.А. Кротов – концепция и дизайн исследования, сбор и обработка данных, статистический анализ, написание текста; М.А. Данилов – концепция исследования, редактирование текста, утверждение окончательной версии; О.В. Князев – концепция исследования, редактирование текста; В.В. Цвиркун – концепция исследования, редактирование текста, общее руководство. Все авторы прочли и одобрили финальную версию статьи перед публикацией, согласны нести ответственность за все аспекты работы и гарантируют, что ими надлежащим образом были рассмотрены и решены вопросы, связанные с точностью и добросовестностью всех частей работы.
Об авторах
Глеб Александрович Кротов
ГБУЗ г. Москвы «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы»
Автор, ответственный за переписку.
Email: krotovgleb@mail.ru
ORCID iD: 0009-0000-0838-3454
врач-хирург приемного отделения
Россия, 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 86–6Михаил Александрович Данилов
ГБУЗ г. Москвы «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы»
Email: m.danilov@mknc.ru
ORCID iD: 0000-0001-9439-9873
д-р мед. наук, зав. отделением колопроктологии
Россия, 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 86–6Олег Владимирович Князев
ГБУЗ г. Москвы «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы»
Email: oleg7@bk.ru
ORCID iD: 0000-0001-7250-0977
д-р мед. наук, профессор, зав. отделением патологии кишечника
Россия, 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 86–6Виктор Викторович Цвиркун
ГБУЗ г. Москвы «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы»
Email: v.zvirkun@mknc.ru
ORCID iD: 0000-0001-5169-2199
д-р мед. наук, профессор, гл. науч. сотр.
Россия, 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 86–6Список литературы
- Marwah S, Godara R, Das S. Fulminant/toxic colitis. In: Coccolini F, Catena F, eds. Textbook of emergency general surgery. Springer, Cham.; 2023. doi: 10.1007/978-3-031-22599-4_83.
- Liggett MR, Alam HB. Management of severe colitis and toxic megacolon. Clin Colon Rectal Surg. 2023;37(6):404–410. doi: 10.1055/s-0043-1777665.
- Lee SD, Betts KA, Xiaoyan Du E, Nie X, Gupte-Singh K, Ritter T. Real-world patterns and economic burden associated with treatment failure with advanced therapies in patients with moderate-to-severe ulcerative colitis. Crohns Colitis 360. 2024;6(2):otae026. doi: 10.1093/crocol/otae026.
- Zhou J, Zhu J, Zhang P, Tao C, Hong X, Zhang Z. Global, regional, and national burdens of Clostridioides difficile infection over recent decades: A trend analysis informed by the global burden of disease study. Microbiol Spectr. 2025;13(6):e0129024. doi: 10.1128/spectrum.01290-24.
- Nagesh VK, Pulipaka SP, Bhuju R, Martinez E, Badam S, Nageswaran GA, Tran HH, Elias D, Mansour C, Musalli J, Bhattarai S, Shobana LS, Sethi T, Sethi R, Nikum N, Trivedi C, Jarri A, Westman C, Ahmed N, Philip S, Weissman S, Weinberger J, Bangolo AI. Management of gastrointestinal bleed in the intensive care setting, an updated literature review. World J Crit Care Med. 2025;14(1):101639. doi: 10.5492/wjccm.v14.i1.101639.
- Elhamshary N, Abdel-Mawla Ammar I, Ahmed Abdelgalil AMS. Gastrointestinal and liver manifestations in patients with COVID-19. Int J Sci Res. 2022;11(1):478–482. doi: 10.21275/sr22109031829.
- Maruyama S, Wada D, Oishi T, Saito F, Yoshiya K, Nakamori Y, Kuwagata Y. A descriptive study of abdominal complications in patients with mild COVID-19 presenting to the emergency department: A single-center experience in Japan during the omicron variant phase. BMC Gastroenterol. 2023;23(1):43. doi: 10.1186/s12876-023-02681-y.
- Парфенов АИ, Каграманова АВ, Хомерики СГ, Кулаков ДС. Современная концепция дифференциальной диагностики колитов: от Г.Ф. Ланга до наших дней. Терапевтический архив. 2023;95(12):1022–1030. doi: 10.26442/ 00403660.2023.12.202496.
- Rubin DT, Ananthakrishnan AN, Siegel CA, Sauer BG, Long MD. ACG clinical guideline: Ulcerative colitis in adults. Am J Gastroenterol. 2019;114(3):384–413. doi: 10.14309/ajg.0000000000000152.
- van Prehn J, Reigadas E, Vogelzang EH, Bouza E, Hristea A, Guery B, Krutova M, Norén T, Allerberger F, Coia JE, Goorhuis A, van Rossen TM, Ooijevaar RE, Burns K, Scharvik Olesen BR, Tschudin-Sutter S, Wilcox MH, Vehreschild MJGT, Fitzpatrick F, Kuijper EJ; Guideline Committee of the European Study Group on Clostridioides difficile. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases: 2021 update on the treatment guidance document for Clostridioides difficile infection in adults. Clin Microbiol Infect. 2021;27 Suppl 2:S1–S21. doi: 10.1016/ j.cmi.2021.09.038.
- Brandt LJ, Feuerstadt P, Longstreth GF, Boley SJ; American College of Gastroenterology. ACG clinical guideline: Epidemiology, risk factors, patterns of presentation, diagnosis, and management of colon ischemia (CI). Am J Gastroenterol. 2015;110(1):18–44; quiz 45. doi: 10.1038/ajg.2014.395.
- Modigliani R. Medical management of fulminant colitis. Inflamm Bowel Dis. 2002;8(2):129–134; discussion 138–139. doi: 10.1097/00054725-200203000-00009.
- Vincent JL, Moreno R, Takala J, Willatts S, De Mendonça A, Bruining H, Reinhart CK, Suter PM, Thijs LG. The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction/failure. On behalf of the Working Group on Sepsis-Related Problems of the European Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care Med. 1996;22(7):707–710. doi: 10.1007/BF01709751.
- Ahmed M. Ischemic bowel disease in 2021. World J Gastroenterol. 2021;27(29):4746–4762. doi: 10.3748/wjg.v27.i29.4746.
- Vuyyuru SK, Nardone OM, Jairath V. Predicting outcome after acute severe ulcerative colitis: A contemporary review and areas for future research. J Clin Med. 2024;13(15):4509. doi: 10.3390/jcm13154509.
- Musso MF, Ong AW. Fulminant сolitis. In: Cohn SM, Lisbon A, Heard S, eds. 50 Landmark papers every intensivist should know. CRC Press; 2021. Pp. 145–150. doi: 10.1201/9781003042136-25.
- Carlson TJ, Gonzales-Luna AJ, Garey KW. Fulminant Clostridioides difficile infection: A review of treatment options for a life-threatening infection. Semin Respir Crit Care Med. 2022;43(1):28–38. doi: 10.1055/s-0041-1740973.
- Bednárik DS, Földvári-Nagy KC, Simon V, Rancz A, Gede N, Veres DS, Paraskevopoulos P, Schnabel T, Erőss B, Hegyi P, Lenti K, Földvári-Nagy L. Comparative effectiveness of different therapies for Clostridioides difficile infection in adults: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Lancet Reg Health Eur. 2025;49:101151. doi: 10.1016/ j.lanepe.2024.101151.
- Cecconi M, Evans L, Levy M, Rhodes A. Sepsis and septic shock. Lancet. 2018;392(10141):75–87. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30696-2.
- Caironi P, Tognoni G, Masson S, Fumagalli R, Pesenti A, Romero M, Fanizza C, Caspani L, Faenza S, Grasselli G, Iapichino G, Antonelli M, Parrini V, Fiore G, Latini R, Gattinoni L; ALBIOS Study Investigators. Albumin replacement in patients with severe sepsis or septic shock. N Engl J Med. 2014;370(15):1412–1421. doi: 10.1056/NEJMoa1305727.
- Gremese E, Bruno D, Varriano V, Perniola S, Petricca L, Ferraccioli G. Serum albumin levels: A biomarker to be repurposed in different disease settings in clinical practice. J Clin Med. 2023;12(18):6017. doi: 10.3390/jcm12186017.
- Cameron K, Nguyen AL, Gibson DJ, Ward MG, Sparrow MP, Gibson PR. Review article: Albumin and its role in inflammatory bowel disease: The old, the new, and the future. J Gastroenterol Hepatol. 2025;40(4):808–820. doi: 10.1111/jgh.16895.
- Saravi B, Goebel U, Hassenzahl LO, Jung C, David S, Feldheiser A, Stopfkuchen-Evans M, Wollborn J. Capillary leak and endothelial permeability in critically ill patients: A current overview. Intensive Care Med Exp. 2023;11(1):96. doi: 10.1186/s40635-023-00582-8.
- Poston JT, Koyner JL. Sepsis associated acute kidney injury. BMJ. 2019;364:k4891. doi: 10.1136/bmj.k4891.
- Saha MK, Hogan SL, Falk RJ, Barnes EL, Hu Y, Kshirsagar AV, Thorpe CT. Acute kidney injury in inflammatory bowel disease patients: A nationwide comparative analysis. Kidney Med. 2024;6(7):100836. doi: 10.1016/ j.xkme.2024.100836.
- Demessence R, Lyoubi Y, Feuerstoss F, Hamy A, Aubé C, Paisant A, Venara A. Surgical management of adhesive small bowel obstruction: Is it still mandatory to wait? – An update. J Visc Surg. 2022;159(4):309–319. doi: 10.1016/j.jviscsurg.2022.02.002.
- Agnes A, Puccioni C, D'Ugo D, Gasbarrini A, Biondi A, Persiani R. The gut microbiota and colorectal surgery outcomes: Facts or hype? A narrative review. BMC Surg. 2021;21(1):83. doi: 10.1186/s12893-021-01087-5.
- Wu H, Xu M, Hao H, Hill MA, Xu C, Liu Z. Endothelial dysfunction and arterial stiffness in patients with inflammatory bowel disease: A systematic review and meta-analysis. J Clin Med. 2022;11(11):3179. doi: 10.3390/jcm11113179.
- Livzan MA, Bikbavova GR, Lisyutenko NS, Romanyuk AE, Drapkina OM. Cardiovascular risk in patients with inflammatory bowel diseases – the role of endothelial dysfunction. Diagnostics (Basel). 2024;14(16):1722. doi: 10.3390/diagnostics14161722.
Дополнительные файлы