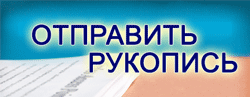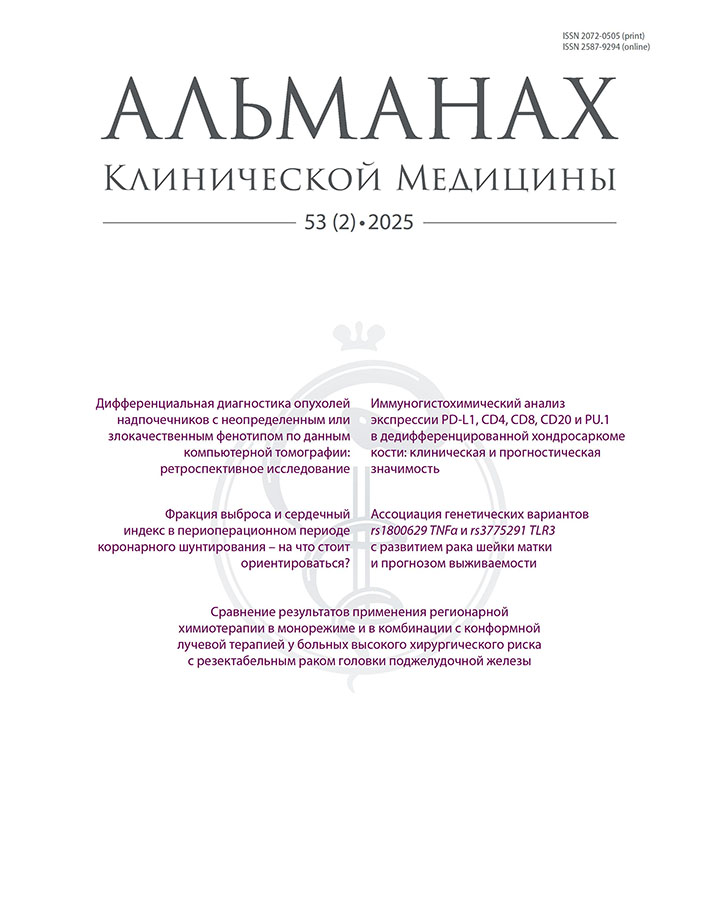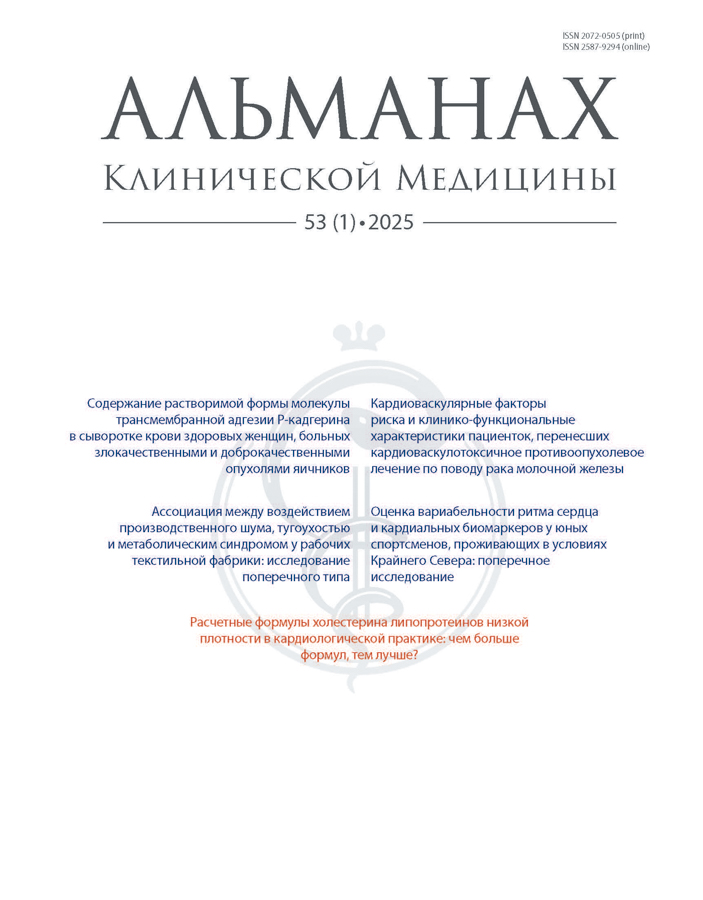Кардиоваскулярные факторы риска и клинико-функциональные характеристики пациенток, перенесших кардиоваскулотоксичное противоопухолевое лечение по поводу рака молочной железы
- Авторы: Виценя М.В.1, Баринова И.В.1, Погосова Н.В.1, Тертерян Т.А.1, Кучиев Д.Т.1, Хрущева Ю.В.1, Герасимова А.А.1, Филатова А.Ю.1, Ибрагимова Н.М.1, Фролкова О.О.2, Агеев Ф.Т.1
-
Учреждения:
- ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России
- ГБУЗ г. Москвы «Московская городская онкологическая больница № 62 Департамента здравоохранения города Москвы»
- Выпуск: Том 53, № 1 (2025)
- Страницы: 21-33
- Раздел: ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
- URL: https://almclinmed.ru/jour/article/view/17413
- DOI: https://doi.org/10.18786/2072-0505-2025-53-004
- ID: 17413
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Обоснование. У пациенток, пролеченных по поводу рака молочной железы (РМЖ), повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Перспективным направлением профилактики представляется участие больных с высоким сердечно-сосудистым риском (ССР) в комплексных программах кардиологической реабилитации, однако в настоящее время нет понимания масштаба потребности в подобных программах в России.
Цель – оценить частоту выявления ССЗ и их факторов риска, суммарный ССР у больных РМЖ, перенесших кардиоваскулотоксичное противоопухолевое лечение, для определения потребности в разработке программ кардиологической реабилитации у данной категории лиц.
Методы. Проведено одноцентровое одномоментное исследование. В период с 2021 по 2023 г. в специализированной кардиологической клинике обследовано 90 женщин, перенесших кардиоваскулотоксичное противоопухолевое лечение по поводу РМЖ. Определяли наличие ССЗ и их факторов риска. Оценивали клиническое состояние, уровни липидов, глюкозы, креатинина, С-реактивного белка, физической активности (опросник IPAQ), стресса (визуальная аналоговая шкала), выраженность тревоги и депрессии (Госпитальная шкала тревоги и депрессии – HADS), качество сна (Питтсбургский опросник качества сна). Выполнены электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография, ЭКГ-проба с физической нагрузкой, в том числе кардиореспираторный нагрузочный тест (n = 53), биоимпедансометрия (n = 83).
Результаты. Медиана возраста пациенток составила 49 [46; 56] лет. Всем пациенткам (100%) проведены оперативное лечение и антрациклин-содержащая химиотерапия. Медиана времени после завершения антрациклин-содержащей химиотерапии составила 36 [11,8; 56,5] месяцев. Лучевая терапия проведена 68 (75,6%) пациенткам, в том числе 42 больным на левую молочную железу. Курение выявлено у 9 (10%), избыточная масса тела и ожирение – у 52 (57,8%), абдоминальное ожирение – у 37 (41,1%), дислипидемия – у 70 (77,8%), артериальная гипертония – у 42 (46,7%), сахарный диабет – у 6 (6,7%) пациенток. О недостаточном уровне физической активности сообщили 69 (76,7%) пациенток. Уровень кардиореспираторной выносливости был снижен, медиана пикового потребления кислорода составила 71% от расчетных значений. У 45 (50%) пациенток выявлена тревожная, у 16 (17,8%) – депрессивная симптоматика, у 51 (56,7%) – высокий уровень стресса, у 80 (88,9%) – нарушение сна. Сердечная недостаточность диагностирована у 11 (12,2%), ишемическая болезнь сердца – у 1 (1,1%), пароксизмальная форма фибрилляции предсердий – у 3 (3,3%) обследованных. К категории высокого / очень высокого ССР (в соответствии с рекомендациями по кардиоонкологии Европейского общества кардиологов 2022 г.) относились 56 (62,2%) пациенток.
Заключение. У пациенток, перенесших кардиоваскулотоксичное противоопухолевое лечение по поводу РМЖ, отмечена высокая частота факторов риска ССЗ. Наиболее часто выявляемым ССЗ была сердечная недостаточность, две трети пациенток имели высокий ССР. Учитывая распространенность РМЖ в России, очевидна потребность в разработке программ кардиологической реабилитации и профилактики ССЗ у данной категории больных.
Полный текст
Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и сердечно-сосудистой смерти у больных раком молочной железы (РМЖ) существенно повышен по сравнению с женщинами без онкологических заболеваний [1, 2], что является результатом сочетанного воздействия факторов риска ССЗ и кардиоваскулотоксичных эффектов противоопухолевого лечения (ПОЛ) [3].
Учитывая высокую распространенность РМЖ и относительно благоприятный отдаленный онкологический прогноз у пациенток, бремя ССЗ становится значимой медицинской проблемой [4]. Это диктует необходимость профилактики ССЗ как в процессе проведения ПОЛ, так и после его завершения. Перспективным направлением снижения сердечно-сосудистого риска (ССР) у больных РМЖ представляется внедрение в клиническую практику комплексных программ кардиологической реабилитации, модифицированных с учетом специфики онкологических заболеваний [5]. Наибольшего эффекта от участия в таких программах следует ожидать у больных с высоким ССР, в том числе с проявлениями кардиоваскулотоксичности ПОЛ [5].
Стратификация ССР после окончания ПОЛ РМЖ остается сложной задачей. В соответствии с рекомендациями по кардиоонкологии Европейского общества кардиологов (ЕОК) 2022 г. при оценке ССР учитываются многие факторы, включающие ПОЛ, наличие проявлений кардиоваскулотоксичности, ССЗ и их факторов риска [6]. В то же время шкалы оценки риска, как традиционные, так и разработанные для онкологических больных, не включают показатели, имеющие большую прогностическую значимость, такие как уровень кардиореспираторной выносливости (КРВ) [7, 8] и психосоциальные факторы [9, 10].
В российской популяции не изучена распространенность ССЗ у больных, получивших лечение по поводу РМЖ. В этой связи целью настоящего исследования было оценить частоту выявления ССЗ и их факторов риска, суммарный ССР у больных РМЖ, перенесших кардиоваскулотоксичное ПОЛ, для определения потребности в разработке программ кардиологической реабилитации у данной категории лиц.
Материал и методы
Проведено одноцентровое исследование поперечного типа. Обследованы женщины в возрасте 18 лет и старше, перенесшие комплексное ПОЛ по поводу РМЖ, включавшее антрациклин-содержащую химиотерапию (ХТ) и оперативное лечение, у части пациенток – в сочетании с лучевой и/или таргетной либо гормональной терапией согласно действующим рекомендациям. Пациентки были направлены или самостоятельно обратились в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России (ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России) в 2021–2023 гг. для обследования и определения тактики кардиологического ведения после завершения кардиотоксичного ПОЛ. Критериями невключения в исследование были абсолютные противопоказания к проведению нагрузочных проб. Протокол исследования одобрен независимым этическим комитетом ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России (протокол № 269 от 28.06.2021). Все пациентки подписали добровольное информированное согласие на участие в исследовании.
Данные о стадии, молекулярно-биологическом подтипе РМЖ, режиме и времени проведения ПОЛ были получены из представленной пациентками медицинской документации. Включенным в исследование пациенткам были проведены общеклиническое обследование; клинический анализ крови; биохимический анализ крови с определением показателей липидного профиля, концентрации глюкозы, креатинина, скорости клубочковой фильтрации (рассчитывали по формуле Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration Formula – CKD-EPI), высокочувствительного С-реактивного белка (вчСРБ); электрокардиография (ЭКГ) в 12 отведениях с оценкой корригированного интервала QT; трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ); ЭКГ-проба с физической нагрузкой; определение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ); ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) брахиоцефальных артерий (n = 44); анализ состава тела (n = 83). Оценивали психологический статус и качество сна. Определяли наличие ССЗ и их факторов риска, суммарный ССР.
Уровень физической активности оценивали по данным короткого международного опросника по физической активности – International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали по формуле: ИМТ = масса тела (кг) / рост2 (м). Значения ИМТ от 25,0 до 29,9 соответствовали избыточной массе тела, более 30,0 – ожирению. Под абдоминальным ожирением понимали показатель окружности талии ≥ 80 см. Биохимический анализ крови выполняли на анализаторе ARCHIТЕСТ (Abbott, CША), ЭхоКГ – на аппарате Vivid E95 (GE HealthCare, США), УЗДС брахиоцефальных артерий – на аппарате iE33 (Philips, Нидерланды), ЛПИ определяли методом объемной сфигмографии на приборе VaseraVS-1500N (FukudaDenshi, Япония). Биоимпедансометрию проводили на приборе АВС-02 «МЕДАСС» (ООО НТЦ «МЕДАСС», Россия). Нагрузочное тестирование выполняли на велоэргометре. После разминки в течение 1 минуты с нагрузкой 2 Вт тест проводили по протоколу со ступенчато нарастающей нагрузкой (25 Вт каждые 2 минуты) (n = 75) или рамп-протоколу (n = 15). Для кардиореспираторного нагрузочного теста (КРНТ) (n = 53) использовали велоэргометр Corival (Lode, Нидерланды) с применением программного обеспечения «Поли-Спектр.NET» компании «Нейрософт» (Россия). Газоанализ методом «вдох за вдохом» проводили с использованием системы Geratherm Respiratory Ergostic (Германия). КРНТ выполняли до появления утомления и невозможности поддержания частоты педалирования более 55 об/мин. Достаточным усилием считали достижение дыхательного коэффициента (RERпик) ≥ 1,1 в сочетании с одышкой, усталостью ног и/или общим утомлением. За пиковое потребление кислорода (VO2пик) принимали среднее значение, полученное за 30-секундный период на максимуме нагрузки.
Психологический статус пациенток оценивали с помощью Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (англ. Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS) по двум подшкалам (HADS А и HADS D). Наличие субклинически выраженной тревожной / депрессивной симптоматики (ТС/ДС) определяли при сумме баллов от 8 до 10, клинически выраженной – ≥ 11 баллов. Для оценки уровня стресса использовали 10-балльную визуальную аналоговую шкалу (ВАШ). Значения ≥ 7 баллов соответствовали высокому уровню стресса. Индекс качества сна оценивали с помощью Питтсбургского опросника (англ. Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI). Значения индекса > 5 баллов соответствовали сниженному качеству сна.
Достижение целевых уровней артериального давления (АД) и холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛНП), а также категорию суммарного ССР оценивали в соответствии с Российскими национальными клиническими рекомендациями по кардиоваскулярной профилактике [11]. Помимо этого, проводили оценку ССР в соответствии с рекомендациями по кардиоонкологии ЕОК 2022 г. [6].
Статистический анализ осуществляли с использованием программы StatTech v. 3.1.10 (ООО «Статтех», Россия). Количественные данные описывали с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей [25-й процентиль; 75-й процентиль]. Категориальные данные представляли с указанием абсолютных значений и процентных долей (%). Сравнение двух групп по количественному показателю выполняли с помощью U-критерия Манна – Уитни. Сравнение процентных долей при анализе многопольных таблиц сопряженности – с помощью точного критерия Фишера. Статистически значимыми считали различия при p < 0,05.
Результаты
В исследование включено 90 женщин, медиана возраста составила 49 [46; 56] лет.
Характеристики рака молочной железы и противоопухолевое лечение
Данные о стадии, молекулярно-биологическом подтипе РМЖ и ПОЛ суммированы в табл. 1. Всем пациенткам были проведены оперативное лечение и антрациклин-содержащая ХТ. Треть пациенток имели HER2-позитивный, две трети – гормонозависимый подтип РМЖ и получили соответствующее медикаментозное лечение. Лучевая терапия была проведена у 75,6% больных, при этом у большинства – на левую молочную железу.
Таблица 1. Комплексная терапия рака молочной железы (n = 90)
Показатель | Значение |
Стадия, n (%): | |
I | 13 (14,4) |
II | 43 (47,8) |
III | 34 (37,8) |
Антрациклин-содержащая ХТ, n (%) | 90 (100) |
Время от окончания антрациклин-содержащей ХТ, мес. | |
Анти-HER2-терапия, n (%) | 27 (30) |
Гормонотерапия, n (%) | 57 (63,3) |
Оперативное лечение, n (%) | 90 (100) |
Лучевая терапия на грудную клетку, n (%) | 68 (75,6) |
Левосторонняя локализация, n (%) | 42 (46,7) |
HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) – 2-й рецептор эпидермального фактора роста человека, ХТ – химиотерапия
Данные представлены как абсолютное число пациентов (n) и их доля в выборке (%); количественные показатели – в виде медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей [25%; 75%]
Клиническая характеристика пациенток, частота выявления сердечно-сосудистых заболеваний и их традиционных факторов риска
Результаты общеклинического, лабораторного и инструментального обследований представлены в табл. 2.
Таблица 2. Основные характеристики пациенток, перенесших кардиоваскулотоксичное лечение по поводу рака молочной железы (n = 90)
Показатель | Значение |
Клинические характеристики | |
САД, мм рт. ст. | 110 [100; 125] |
ДАД, мм рт. ст. | 75 [70; 80] |
ЧСС, уд/мин | 66 [60; 72] |
Индекс массы тела | |
Окружность талии, см | |
Гемоглобин, г/дл | |
ОХС, ммоль/л | |
Триглицериды, ммоль/л | |
ХС-ЛВП, ммоль/л | |
ХС-ЛНП, ммоль/л | |
Скорость клубочковой фильтрации, мл/мин/1,73 м2 | 90 [81; 101] |
Глюкоза, ммоль/л | |
вчСРБ, мг/л | |
Эхокардиографические показатели | |
ОЛПи, мл/м2 | |
КДОиЛЖ, мл/м2 | |
ФВ ЛЖ, % | |
GLS ЛЖ, % | -20 [-18,7; -21,6] |
Е/е' | |
Показатели состояния сосудистой стенки | |
ЛПИ | |
Атеросклероз брахиоцефальных артерий, n (%)* | 27 (61,4) |
Показатели биоимпедансометрии (n = 83) | |
Жировая масса, кг | |
Категория жировой массы, n (%): | |
норма | 13 (15,7) |
снижена | 3 (3,6) |
увеличена | 67 (80,7) |
Скелетно-мышечная масса, кг | |
Категория скелетно-мышечной массы, n (%): | |
норма | 53 (63,9) |
снижена | 21 (25,3) |
увеличена | 9 (10,8) |
Доля скелетно-мышечной массы, % | |
Категория доли скелетно-мышечной массы, n (%): | |
норма | 69 (83,1) |
снижена | 9 (10,8) |
увеличена | 5 (6,0) |
Скорость основного обмена, ккал/сут | 1350 [1276; 1436] |
Медикаментозная терапия ССЗ и сахарного диабета | |
Бета-адреноблокаторы, n (%) | 25 (27,8) |
ИАПФ/БРА, n (%) | 18 (20) |
АРНИ, n (%) | 4 (4,4) |
Диуретики, n (%) | 3 (3,3) |
Антагонисты минералокортикоидных рецепторов, n (%) | 3 (3,3) |
Антагонисты кальция, n (%) | 2 (2,2) |
Статины, n (%) | 10 (11,1) |
Противодиабетическая терапия, n (%) | 5 (5,6) |
Антиагреганты, n (%) | 6 (6,7) |
Антикоагулянты, n (%) | 7 (7,8) |
GLS ЛЖ – общая продольная деформация левого желудочка, Е/е´ – соотношение скоростей раннего трансмитрального кровотока и подъема основания левого желудочка в раннюю диастолу, АРНИ – ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибиторы, БРА – блокаторы рецепторов ангиотензина II, вчCРБ – высокочувствительный C-реактивный белок, ДАД – диастолическое артериальное давление, ИАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, КДОиЛЖ – индексированный конечный диастолический объем левого желудочка, ЛПИ – лодыжечно-плечевой индекс, ОЛПи – индексированный объем левого предсердия, ОХС – общий холестерин, САД – систолическое артериальное давление, ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка, ХС-ЛВП – холестерин липопротеидов высокой плотности, ХС-ЛНП – холестерин липопротеидов низкой плотности, ЧСС – частота сердечных сокращений
Данные представлены как абсолютное число пациентов (n) и их доля в выборке (%); количественные показатели – в виде медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей [25%; 75%]
* Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий выполнено у 44 пациенток
Среди традиционных факторов риска ССЗ наиболее часто встречались дислипидемия, артериальная гипертония (АГ), избыточная масса тела / ожирение и абдоминальное ожирение, реже – курение и сахарный диабет (СД). О недостаточном уровне физической активности (< 150 минут умеренной или 75 минут в неделю интенсивной физической нагрузки) сообщили более двух третей пациенток. Повышенный (> 5 мг/л) уровень вчСРБ отмечен у 10% пациенток (рис. 1).
Рис. 1. Частота выявления традиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у больных раком молочной железы, перенесших кардиоваскулотоксичное лечение (n = 90). вчСРБ – высокочувствительный С-реактивный белок
По данным биоимпедансометрии (n = 83) избыточное содержание жировой массы было зарегистрировано у 80,7% пациенток, из них у 64,2% (n = 43) ИМТ превышал 25 кг/м2. В то же время у 35,8% (n = 24) пациенток ИМТ соответствовал нормативным значениям. Снижение абсолютного количества скелетно-мышечной массы выявлено у четверти пациенток (см. табл. 2).
При проведении ЭКГ у всех пациенток был зарегистрирован синусовый ритм, удлинение корригированного интервала QT (> 0,44 с) отмечено у 25,6% (n = 23) пациенток. По результатам ЭхоКГ нарушение диастолической функции левого желудочка (ЛЖ) выявлено у 48,9% (n = 44) пациенток, а фракции выброса (ФВ) ЛЖ < 50% – у 8,89% (n = 8). Медиана показателей ЛПИ не превышала уровень нормальных значений. Из 44 пациенток, которым было выполнено УЗДС брахиоцефальных артерий, две трети имели признаки их атеросклеротического поражения (см. табл. 2).
Из ССЗ у пациенток, получивших кардиоваскулотоксичную терапию РМЖ, наиболее часто диагностировали сердечную недостаточность (СН) – у 11 (12,2%) больных, из которых у 4 – с сохраненной ФВ ЛЖ. Редко регистрировали ишемическую болезнь сердца – у 1, пароксизмальную форму фибрилляции предсердий – у 3, тромбоэмболию легочной артерии в анамнезе – у 3 пациенток.
Медикаментозную терапию по поводу ССЗ и СД получали 36 (40%) пациенток. Наиболее часто использовались бета-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы рецепторов ангиотензина II и статины. Целевые значения АД были достигнуты у 76,2% (n = 32) из имеющих АГ пациенток, ХС-ЛНП – у 27,8% (n = 25).
Результаты нагрузочного тестирования
По результатам ЭКГ-пробы с физической нагрузкой у большинства пациенток отмечен средний и высокий уровень толерантности к физической нагрузке (табл. 3). По данным кардиореспираторного теста уровень КРВ был снижен, медиана VO2пик составила 71% от расчетных значений. Доля пациенток со сниженными значениями VO2пик (< 80% от расчетного) и кислородного пульса была 54,7% (n = 29).
Таблица 3. Результаты функциональных нагрузочных проб
Показатель | Значение |
ЭКГ-проба с физической нагрузкой (n = 90) | |
МЕТs | |
Максимальная мощность нагрузки, Вт | 100 [75; 100] |
ЧССпик, уд/мин | 148 [134; 156] |
СВН по шкале Борга, баллы | 15 [14; 17] |
Толерантность к физической нагрузке, n (%): | |
низкая | 9 (10,7) |
средняя | 57 (67,9) |
высокая | 18 (21,4) |
Проба доведена до субмаксимальной ЧСС, n (%) | 59 (70,2) |
Кардиореспираторный нагрузочный тест (n = 53) | |
VO2пик, мл/мин/кг | |
%VO2пик, % | |
RERпик | |
O2-пульс пик, мл/уд | |
%О2-пульс пик, % | |
МЕТ – максимально выполненная работа, O2-пульс пик – пиковый кислородный пульс, RERпик – дыхательный коэффициент, VO2пик – пиковое потребление кислорода, СВН – субъективно воспринимаемая напряженность, ЧСС – частота сердечных сокращений, ЭКГ – электрокардиография
Данные представлены как абсолютное число пациентов (n) и их доля в выборке (%); количественные показатели – в виде медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей [25%; 75%]
Психологический статус и качество сна
По результатам оценки психологического статуса ТС выявлена у половины пациенток, из которых клинически выраженная – у 40%. Субклиническая и клинически выраженная ДС диагностирована у 17,8% пациенток. Сочетание клинически выраженной ТС и ДС зафиксировано у 4 (4,4%) обследованных. Высокий уровень стресса выявлен более чем у половины пациенток. У подавляющего большинства пациенток отмечено сниженное качество сна (табл. 4).
Таблица 4. Психосоциальные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и качество сна (n = 90)
Показатель | Значение, n (%) |
Тревожная симптоматика: | 45 (50) |
клинически выраженная | 18 (20) |
субклиническая | 27 (30) |
Депрессивная симптоматика: | 16 (17,8) |
клинически выраженная | 11 (12,2) |
субклиническая | 5 (5,6) |
Высокий уровень стресса | 51 (56,7) |
Сниженное качество сна | 80 (88,9) |
Данные представлены как абсолютное число пациентов (n) и их доля в выборке (%)
Оценка сердечно-сосудистого риска
В соответствии с Российскими национальными рекомендациями [11] к категории низкого / умеренного суммарного ССР относились 60 (66,7%), высокого / очень высокого ССР – 30 (33,3%) пациенток. При этом в соответствии с рекомендациями ЕОК по оценке ССР у больных, перенесших ПОЛ, высокий / очень высокий ССР имели 56 (62,2%) пациенток, из которых половину составляли пациентки c низким / умеренным суммарным ССР, рассчитанным по традиционным шкалам риска (рис. 2).
Рис. 2. Сердечно-сосудистый риск (ССР) у пациенток, пролеченных по поводу рака молочной железы (n = 90). А – суммарный ССР, оцененный в соответствии с Российскими национальными рекомендациями по кардиоваскулярной профилактике (2022 г.), Б – ССР, оцененный с учетом рекомендаций по кардиоонкологии Европейского общества кардиологов (2022 г.)
Кроме того, как в группе пациенток с высоким / очень высоким, так и с низким / умеренным ССР нами отмечена высокая частота выявления психологических факторов риска ССЗ, не входящих в традиционные калькуляторы. У пациенток с низким / умеренным ССР чаще регистрировали высокий уровень стресса. Не выявлено статистически значимых различий по доле пациенток со сниженным качеством сна (табл. 5).
Таблица 5. Частота неучтенных факторов риска в зависимости от категории сердечно-сосудистого риска у больных, перенесших противоопухолевое лечение (в соответствии с рекомендациями по кардиоонкологии Европейского общества кардиологов 2022 г.)
Показатель | Низкий / умеренный ССР (n = 34) | Высокий / очень высокий ССР (n = 56) | Значение р |
Возраст, годы | 0,005 | ||
Психосоциальные факторы риска и качество сна | |||
Тревожная симптоматика, n (%): | 0,671 | ||
субклиническая | 8 (23,5) | 19 (33,9) | |
клинически выраженная | 10 (29,4) | 8 (14,3) | |
Депрессивная симптоматика, n (%): | 1 | ||
субклиническая | 4 (11,8) | 7 (12,5) | |
клинически выраженная | 2 (5,9) | 3 (5,4) | |
Высокий уровень стресса, n (%) | 26 (76,5) | 25 (44,6) | 0,004 |
Сниженное качество сна, n (%) | 31 (91,2) | 49 (87,5) | 0,737 |
Кардиореспираторная выносливость | n = 20 | n = 33 | |
VO2пик, мл/мин/кг | 0,046 | ||
КРВ ниже порога функциональной независимости, n (%) | 12 (60) | 25 (73,5) | 0,354 |
VO2пик – пиковое потребление кислорода, КРВ – кардиореспираторная выносливость, ССР – сердечно-сосудистый риск
Данные представлены как абсолютное число пациентов (n) и их доля в группе (%)
Уровень КРВ у пациенток с низким / умеренным ССР был выше, чем у пациенток с высоким / очень высоким ССР. В то же время доля пациенток с уровнем КРВ ниже порога функциональной независимости (< 18 мл/мин/кг) была высокой в обеих группах без статистически значимых различий между ними (см. табл. 5).
Обсуждение
В настоящем исследовании впервые в России изучена частота сердечно-сосудистых, в том числе часто не учитываемых, факторов риска ССЗ и проведена оценка суммарного ССР у пациенток, перенесших кардиоваскулотоксичное ПОЛ по поводу РМЖ.
Среди традиционных факторов риска ССЗ наиболее часто встречалась дислипидемия (77,8%), доля которой была выше популяционного показателя [12], что, возможно, связано с применением ингибиторов ароматаз, обладающих известным неблагоприятным влиянием на липидный профиль [13]. Частота выявления АГ, избыточной массы тела / ожирения и курения не превышала показатели для популяции российских женщин 45–54 лет, определенные в эпидемиологическом исследовании ЭССЕ-РФ [14].
Для улучшения отдаленного прогноза онкологических больных важное значение имеет контроль факторов риска. Так, ожирение, способствуя развитию инсулинорезистентности, эндотелиальной дисфункции, воспалительному и протромботическому состоянию, не только повышает сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность независимо от других факторов ССР [15], но и ассоциируется с увеличением риска рецидивирования РМЖ, повышением онкологической и общей смертности [16]. Несмотря на то что ИМТ остается основным показателем для диагностики ожирения, определение состава тела позволяет более точно выявлять пациентов с повышенным содержанием жировой ткани в организме [17]. В нашем исследовании при анализе состава тела избыточное содержание жировой ткани зарегистрировано у большинства (80,7%) пациенток, при этом более трети из них имели нормальный ИМТ.
Тесно связанное с ожирением хроническое воспаление признано одним из ключевых патогенетических механизмов, ответственных за развитие и прогрессирование многих сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний [18], в том числе РМЖ [19]. В проспективном исследовании ЭССЕ-РФ показан независимый вклад вчСРБ в развитие фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий в российской популяции, при этом оптимальный для прогнозирования риска уровень вчСРБ находился в пределах референсных значений [20]. В нашей работе у 10% пациенток концентрация вчСРБ превышала референсный уровень.
Три четверти включенных в наше исследование пациенток не выполняли рекомендованный объем физических нагрузок, что согласуется с результатами ранее проведенных исследований [21]. Недостаточная физическая активность объясняется наличием болевого синдрома и хронической утомляемости, а также психологическими факторами [22]. Гиподинамия и снижение секреции миокинов, участвующих в регуляции процессов глюконеогенеза, секреции инсулина, липолиза, и последующее накопление висцеральной жировой ткани как источника хронического воспаления – возможные механизмы развития и прогрессирования целого ряда хронических неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические [23]. У значительной доли пациенток был выявлен сниженный уровень физической работоспособности. По данным КРНТ медиана уровня VO2пик составила 71% от расчетных значений. Известно, что у больных РМЖ исходный уровень КРВ снижен по сравнению с сопоставимыми по возрасту здоровыми женщинами, что усугубляется под воздействием ПОЛ [24, 25]. При этом стойкое снижение КРВ наиболее характерно для пациенток, перенесших комплексное ПОЛ [26]. КРВ – важный интегральный функциональный показатель, но он редко учитывается в рутинной клинической практике. Как в общей популяции, так и у пациентов с онкологическими заболеваниями уровень КРВ имеет обратную взаимосвязь с сердечно-сосудистой, онкологической и общей смертностью, являясь ее независимым предиктором [7, 8, 27].
В нашем исследовании отмечена высокая частота нарушений психологического статуса (ТС – у 50%, ДС – у 18%) и сопутствующих им нарушений сна (89%) у больных РМЖ, что подтверждает данные более крупных исследований и метаанализов [28–30]. Психосоциальные факторы ассоциированы с традиционными, в том числе поведенческими, факторами риска ССЗ, способствуют снижению приверженности к лечению, препятствуют изменению образа жизни и вносят весомый вклад в развитие и прогрессирование ССЗ [9, 31]. Наряду с этим показано, что депрессия и тревога играют значимую роль в повышении риска рецидива РМЖ и смертности от всех причин, выступая их независимыми предикторами [32].
Важно отметить, что оценка ССР у онкологических больных отличается от предусмотренной рекомендациями по кардиоваскулярной профилактике для общей популяции, поскольку учитывает дополнительные факторы, связанные с ПОЛ, такие как исходный риск кардиоваскулотоксичности, ее проявления в процессе терапии и применение противоопухолевых средств с высоким риском долгосрочных сердечно-сосудистых осложнений (прежде всего антрациклинов и лучевой терапии) [6]. Результаты нашего исследования ярко иллюстрируют эти различия: доля пациенток с высоким / очень высоким ССР, определенным в соответствии с рекомендациями по кардиоонкологии, составила 62,2% и двукратно превысила данный показатель, рассчитанный по традиционным калькуляторам ССР. Принимая во внимание недостаточную информированность врачей о способах стратификации риска у больных РМЖ, можно предположить, что в реальной клинической практике ССР у данной категории больных недооценен.
В настоящее время широко обсуждается проблема так называемого остаточного риска у больных ССЗ и необходимость совершенствования шкал оценки ССР с включением факторов с доказанной прогностической ролью – поведенческих и психосоциальных [10, 33]. Недооценка истинного риска сердечно-сосудистых осложнений ПОЛ не менее актуальна для больных РМЖ. В нашей когорте у пациенток с низким / умеренным ССР отмечена большая частота ТС (52,9%) и ДС (17,9%). Обращает на себя внимание высокая доля пациенток с повышенным уровнем стресса (76,5%), что, вероятно, объясняется психологическими трудностями в борьбе с онкологическим заболеванием у более молодых пациенток (с низким / умеренным ССР) из-за их множественных социальных ролей. Необходимо также подчеркнуть, что у двух третей пациенток данной категории риска отмечался сниженный уровень КРВ, значимость которой для онкологических больных обсуждалась выше.
Согласно результатам исследования The Pathways Heart Study, включавшего 13 642 больных РМЖ и 68 202 женщин без РМЖ в анамнезе, в среднем за 7 лет наблюдения у больных РМЖ отмечена более высокая по сравнению с контрольной группой заболеваемость СН, которая ассоциировалась с терапией антрациклинами и/или трастузумабом, лучевой терапией и гормонотерапией ингибиторами ароматаз, а также связанное с ПОЛ повышение риска развития инсульта, нарушений ритма сердца, венозной тромбоэмболии, сердечно-сосудистой смерти и смерти от всех причин [1]. В нашем исследовании у пациенток, получивших комплексное кардиоваскулотоксичное ПОЛ, СН регистрировали в 12,2% случаев, частота выявления ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий и перенесенной ранее тромбоэмболии легочной артерии не превышала 1–3%. Сопоставимая с показателями общей популяции доля больных с ССЗ и их факторами риска, обычно являющимися субстратом развития СН, подчеркивает значимость ПОЛ в генезе СН у наших пациенток.
К основному ограничению нашего исследования следует отнести небольшое количество включенных больных. Помимо этого, участниками данного исследования были больные РМЖ, получившие антрациклин-содержащее ПОЛ, направленные или самостоятельно обратившиеся в ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России, что не позволяет интерполировать полученные данные о состоянии сердечно-сосудистой системы, частоте выявления ССЗ и их факторов риска на всю когорту больных, перенесших РМЖ.
Заключение
В нашем исследовании показана высокая частота выявления факторов риска ССЗ и освещена проблема недооценки суммарного ССР у больных, перенесших кардиоваскулотоксичное ПОЛ по поводу РМЖ. Принимая во внимание высокую распространенность РМЖ в российской популяции, частоту назначения комплексной кардиоваскулотоксичной противоопухолевой терапии и долю больных с высоким / очень высоким ССР, очевидна потребность в разработке различных моделей программ кардиореабилитации у больных РМЖ и их внедрения в клиническую практику.
Дополнительная информация
Финансирование
Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства здравоохранения РФ (регистрационный № НИОКТР 121031300223-4).
Конфликт интересов
Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Участие авторов
М.В. Виценя, И.В. Баринова – концепция и дизайн исследования, сбор и обработка материала, статистическая обработка данных, написание текста; И.В. Погосова, Ф.Т. Агеев – концепция и дизайн исследования, редактирование рукописи; Т.А. Тертерян, Д.Т. Кучиев, Ю.В. Хрущева, А.А. Герасимова, А.Ю. Филатова, Н.М. Ибрагимова, О.О. Фролкова – сбор и обработка материала. Все авторы прочли и одобрили финальную версию статьи перед публикацией, согласны нести ответственность за все аспекты работы и гарантируют, что ими надлежащим образом были рассмотрены и решены вопросы, связанные с точностью и добросовестностью всех частей работы.
Об авторах
Марина Вячеславна Виценя
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России
Автор, ответственный за переписку.
Email: marinavitsenya@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-1996-3416
канд. мед. наук, ст. науч. сотр. отдела амбулаторных лечебно-диагностических технологий
Россия, 121552, Москва, ул. Академика Чазова, 15аИрина Владимировна Баринова
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России
Email: ndo-barinova@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-3753-1860
канд. мед. наук, врач-кардиолог отделения кардиореабилитации
Россия, 121552, Москва, ул. Академика Чазова, 15аНана Вачиковна Погосова
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России
Email: nanapogosova@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-4165-804X
д-р мед. наук, профессор, заместитель генерального директора по научно-аналитической работе и профилактической кардиологии
Россия, 121552, Москва, ул. Академика Чазова, 15аТатевик Арменовна Тертерян
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России
Email: terteryant@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-0702-661X
врач-кардиолог отделения кардиореабилитации
Россия, 121552, Москва, ул. Академика Чазова, 15аДавид Таймуразович Кучиев
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России
Email: david988721@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-3492-5373
врач-кардиолог отделения кардиореабилитации
Россия, 121552, Москва, ул. Академика Чазова, 15аЮлия Викторовна Хрущева
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России
Email: ylvictor@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0008-2670-140X
канд. мед. наук, врач-диетолог отделения кардиореабилитации
Россия, 121552, Москва, ул. Академика Чазова, 15аАнна Александровна Герасимова
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России
Email: anna.al.gerasimova@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-5298-6084
медицинский психолог отделения кардиореабилитации
Россия, 121552, Москва, ул. Академика Чазова, 15аАнастасия Юрьевна Филатова
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России
Email: anastasia.m088@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-8911-1628
канд. мед. наук, науч. сотр. лаборатории фиброза миокарда и сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса
Россия, 121552, Москва, ул. Академика Чазова, 15аНурсият Магомедалиевна Ибрагимова
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России
Email: nursik0205@gmail.com
ORCID iD: 0009-0008-4649-7004
врач функциональной диагностики консультативно-диагностического центра
Россия, 121552, Москва, ул. Академика Чазова, 15аОльга Олеговна Фролкова
ГБУЗ г. Москвы «Московская городская онкологическая больница № 62 Департамента здравоохранения города Москвы»
Email: olya_doc@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0900-2331
врач-кардиолог
Россия, 143423, Московская область, г.о. Красногорск, пос. Истра, 27Фаиль Таипович Агеев
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России
Email: ftageev@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-4369-1393
д-р мед. наук, профессор, гл. науч. сотр. отдела амбулаторных лечебно-диагностических технологий
Россия, 121552, Москва, ул. Академика Чазова, 15аСписок литературы
- Greenlee H, Iribarren C, Rana JS, Cheng R, Nguyen-Huynh M, Rillamas-Sun E, Shi Z, Laurent CA, Lee VS, Roh JM, Santiago-Torres M, Shen H, Hershman DL, Kushi LH, Neugebauer R, Kwan ML. Risk of cardiovascular disease in women with and without breast cancer: The pathways heart study. J Clin Oncol. 2022;40(15):1647–1658. doi: 10.1200/JCO.21.01736.
- Galimzhanov A, Istanbuly S, Tun HN, Ozbay B, Alasnag M, Ky B, Lyon AR, Kayikcioglu M, Tenekecioglu E, Panagioti M, Kontopantelis E, Abdel-Qadir H, Mamas MA. Cardiovascular outcomes in breast cancer survivors: A systematic review and meta-analysis. Eur J Prev Cardiol. 2023;30(18):2018–2031. doi: 10.1093/eurjpc/zwad243.
- Mehta LS, Watson KE, Barac A, Beckie TM, Bittner V, Cruz-Flores S, Dent S, Kondapalli L, Ky B, Okwuosa T, Piña IL, Volgman AS; American Heart Association Cardiovascular Disease in Women and Special Populations Committee of the Council on Clinical Cardiology; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; and Council on Quality of Care and Outcomes Research. Cardiovascular disease and breast cancer: Where these entities intersect: A scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2018;137(8):e30–e66. doi: 10.1161/CIR.0000000000000556. Erratum in: Circulation. 2019;140(9):e543. doi: 10.1161/CIR.0000000000000728.
- Каприн АД, Старинский ВВ, Шахзадова АО, ред. Состояние онкологической помощи населению России в 2023 году. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена − филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России; 2024. 262 с.
- Gilchrist SC, Barac A, Ades PA, Alfano CM, Franklin BA, Jones LW, La Gerche A, Ligibel JA, Lopez G, Madan K, Oeffinger KC, Salamone J, Scott JM, Squires RW, Thomas RJ, Treat-Jacobson DJ, Wright JS; American Heart Association Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Secondary Prevention Committee of the Council on Clinical Cardiology; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; and Council on Peripheral Vascular Disease. Cardio-oncology rehabilitation to manage cardiovascular outcomes in cancer patients and survivors: A scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2019;139(21):e997–e1012. doi: 10.1161/CIR.0000000000000679.
- Lyon AR, López-Fernández T, Couch LS, Asteggiano R, Aznar MC, Bergler-Klein J, Boriani G, Cardinale D, Cordoba R, Cosyns B, Cutter DJ, de Azambuja E, de Boer RA, Dent SF, Farmakis D, Gevaert SA, Gorog DA, Herrmann J, Lenihan D, Moslehi J, Moura B, Salinger SS, Stephens R, Suter TM, Szmit S, Tamargo J, Thavendiranathan P, Tocchetti CG, van der Meer P, van der Pal HJH; ESC Scientific Document Group. 2022 ESC Guidelines on cardio-oncology developed in collaboration with the European Hematology Association (EHA), the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) and the International Cardio-Oncology Society (IC-OS). Eur Heart J. 2022;43(41):4229–4361. doi: 10.1093/eurheartj/ehac244. Erratum in: Eur Heart J. 2023;44(18):1621. doi: 10.1093/eurheartj/ehad196.
- Groarke JD, Payne DL, Claggett B, Mehra MR, Gong J, Caron J, Mahmood SS, Hainer J, Neilan TG, Partridge AH, Di Carli M, Jones LW, Nohria A. Association of post-diagnosis cardiorespiratory fitness with cause-specific mortality in cancer. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2020;6(4):315–322. doi: 10.1093/ehjqcco/qcaa015.
- Schmid D, Leitzmann MF. Cardiorespiratory fitness as predictor of cancer mortality: A systematic review and meta-analysis. Ann Oncol. 2015;26(2):272–278. doi: 10.1093/annonc/mdu250.
- Погосова НВ, Соколова ОЮ, Юферева ЮМ, Курсаков АА, Аушева АК, Арутюнов АА, Калинина АС, Карпова АВ, Выгодин ВА, Бойцов СА, Оганов РГ. Психосоциальные факторы риска у пациентов с наиболее распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями – артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца (по данным российского многоцентрового исследования КОМЕТА). Кардиология. 2019;59(8):54–63. doi: 10.18087/cardio.2019.8.n469.
- Смирнова МД, Свирида ОН, Фофанова ТВ, Бланова ЗН, Яровая ЕБ, Агеев ФТ, Бойцов СА. Субклинические депрессия и тревога как дополнительный фактор риска сердечно-сосудистых осложнений у больных с низким и умеренным риском (по данным десятилетнего наблюдения). Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021;20(4):2762. doi: 10.15829/1728-8800-2021-2762.
- Бойцов СА, Погосова НВ, Аншелес АА, Бадтиева ВА, Балахонова ТВ, Барбараш ОЛ, Васюк ЮА, Гамбарян МГ, Гендлин ГЕ, Голицын СП, Драпкина ОМ, Дроздова ЛЮ, Ежов МВ, Ершова АИ, Жиров ИВ, Карпов ЮА, Кобалава ЖД, Концевая АВ, Литвин АЮ, Лукьянов ММ, Марцевич СЮ, Мацкеплишвили СТ, Метельская ВА, Мешков АН, Мишина ИЕ, Панченко ЕП, Попова АБ, Сергиенко ИВ, Смирнова МД, Смирнова МИ, Соколова ОЮ, Стародубова АВ, Сухарева ОЮ, Терновой СК, Ткачева ОН, Шальнова СА, Шестакова МВ. Кардиоваскулярная профилактика 2022. Российские национальные рекомендации. Российский кардиологический журнал. 2023;28(5):5452. doi: 10.15829/1560-4071-2023-5452.
- Мешков АН, Ершова АИ, Деев АД, Метельская ВА, Жернакова ЮВ, Ротарь ОП, Шальнова СА, Бойцов СА. Распределение показателей липидного спектра у мужчин и женщин трудоспособного возраста в Российской Федерации: результаты исследования ЭССЕ-РФ за 2012–2014 гг. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2017;16 (4):62–67. doi: 10.15829/1728-8800-2017-4-62-67.
- Okwuosa TM, Morgans A, Rhee JW, Reding KW, Maliski S, Plana JC, Volgman AS, Moseley KF, Porter CB, Ismail-Khan R; American Heart Association Cardio-Oncology Subcommittee of the Council on Clinical Cardiology and the Council on Genomic and Precision Medicine; Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology; and Council on Cardiovascular Radiology and Intervention. Impact of hormonal therapies for treatment of hormone-dependent cancers (breast and prostate) on the cardiovascular system: Effects and modifications: A scientific statement from the American Heart Association. Circ Genom Precis Med. 2021;14(3):e000082. doi: 10.1161/HCG.0000000000000082.
- Бойцов СА, Драпкина ОМ, Шляхто ЕВ, Конради АО, Баланова ЮА, Жернакова ЮВ, Метельская ВА, Ощепкова ЕВ, Ротарь ОП, Шальнова СА. Исследование ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах Российской Федерации). Десять лет спустя. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021;20(5):3007. doi: 10.15829/1728-8800-2021-3007.
- Powell-Wiley TM, Poirier P, Burke LE, Després JP, Gordon-Larsen P, Lavie CJ, Lear SA, Ndumele CE, Neeland IJ, Sanders P, St-Onge MP; American Heart Association Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Clinical Cardiology; Council on Epidemiology and Prevention; and Stroke Council. Obesity and cardiovascular disease: A scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2021;143(21):e984–e1010. doi: 10.1161/CIR.0000000000000973.
- Jiralerspong S, Kim ES, Dong W, Feng L, Hortobagyi GN, Giordano SH. Obesity, diabetes, and survival outcomes in a large cohort of early-stage breast cancer patients. Ann Oncol. 2013;24(10):2506–2514. doi: 10.1093/annonc/mdt224.
- Potter AW, Chin GC, Looney DP, Friedl KE. Defining overweight and obesity by percent body fat instead of body mass index. J Clin Endocrinol Metab. 2024:dgae341. doi: 10.1210/clinem/dgae341.
- Libby P, Kobold S. Inflammation: A common contributor to cancer, aging, and cardiovascular diseases-expanding the concept of cardio-oncology. Cardiovasc Res. 2019;115(5):824–829. doi: 10.1093/cvr/cvz058.
- Danforth DN. The role of chronic inflammation in the development of breast cancer. Cancers (Basel). 2021;13(15):3918. doi: 10.3390/cancers13153918.
- Евстифеева СЕ, Шальнова СА, Куценко ВА, Яровая ЕБ, Баланова ЮА, Имаева АЭ, Капустина АВ, Муромцева ГА, Максимов СА, Карамнова НС, Самохина ЮЮ, Драпкина ОМ, Кулакова НВ, Трубачева ИА, Ефанов АЮ, Шабунова АА, Белова ОА, Ротарь ОП. Связь высокочувствительного С-реактивного белка с фатальными и нефатальными сердечно-сосудистыми событиями у лиц трудоспособного возраста (данные проспективного исследования ЭССЕ-РФ). Российский кардиологический журнал. 2021;26(5):4399. doi: 10.15829/1560-4071-2021-4399.
- Mason C, Alfano CM, Smith AW, Wang CY, Neuhouser ML, Duggan C, Bernstein L, Baumgartner KB, Baumgartner RN, Ballard-Barbash R, McTiernan A. Long-term physical activity trends in breast cancer survivors. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2013;22(6):1153–1161. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-13-0141.
- Баринова ИВ, Виценя МВ, Агеев ФТ, Погосова НВ. Роль физических нагрузок в реабилитации больных раком молочной железы. Кардиологический вестник. 2022;17(4):16–23. doi: 10.17116/Cardiobulletin20221704116.
- Vella CA, Allison MA, Cushman M, Jenny NS, Miles MP, Larsen B, Lakoski SG, Michos ED, Blaha MJ. Physical activity and adiposity-related inflammation: The MESA. Med Sci Sports Exerc. 2017;49(5):915–921. doi: 10.1249/MSS.0000000000001179.
- Jones LW, Courneya KS, Mackey JR, Muss HB, Pituskin EN, Scott JM, Hornsby WE, Coan AD, Herndon JE 2nd, Douglas PS, Haykowsky M. Cardiopulmonary function and age-related decline across the breast cancer survivorship continuum. J Clin Oncol. 2012;30(20):2530–2537. doi: 10.1200/JCO.2011.39.9014.
- Peel AB, Thomas SM, Dittus K, Jones LW, Lakoski SG. Cardiorespiratory fitness in breast cancer patients: A call for normative values. J Am Heart Assoc. 2014;3(1):e000432. doi: 10.1161/JAHA.113.000432.
- Lakoski SG, Barlow CE, Koelwyn GJ, Hornsby WE, Hernandez J, Defina LF, Radford NB, Thomas SM, Herndon JE 2nd, Peppercorn J, Douglas PS, Jones LW. The influence of adjuvant therapy on cardiorespiratory fitness in early-stage breast cancer seven years after diagnosis: The Cooper Center Longitudinal Study. Breast Cancer Res Treat. 2013;138(3):909–916. doi: 10.1007/s10549-013-2478-1.
- Ross R, Blair SN, Arena R, Church TS, Després JP, Franklin BA, Haskell WL, Kaminsky LA, Levine BD, Lavie CJ, Myers J, Niebauer J, Sallis R, Sawada SS, Sui X, Wisløff U; American Heart Association Physical Activity Committee of the Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health; Council on Clinical Cardiology; Council on Epidemiology and Prevention; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Functional Genomics and Translational Biology; Stroke Council. Importance of assessing cardiorespiratory fitness in clinical practice: A case for fitness as a clinical vital sign: A scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2016;134(24):e653–e699. doi: 10.1161/CIR.0000000000000461.
- Hashemi SM, Rafiemanesh H, Aghamohammadi T, Badakhsh M, Amirshahi M, Sari M, Behnamfar N, Roudini K. Prevalence of anxiety among breast cancer patients: A systematic review and meta-analysis. Breast Cancer. 2020;27(2):166–178. doi: 10.1007/s12282-019-01031-9.
- Pilevarzadeh M, Amirshahi M, Afsargharehbagh R, Rafiemanesh H, Hashemi SM, Balouchi A. Global prevalence of depression among breast cancer patients: A systematic review and meta-analysis. Breast Cancer Res Treat. 2019;176(3):519–533. doi: 10.1007/s10549-019-05271-3.
- Edmed SL, Huda MM, Smith SS, Seib C, Porter-Steele J, Anderson D, McCarthy AL. Prevalence and predictors of sleep problems in women following a cancer diagnosis: Results from the women's wellness after cancer program. J Cancer Surviv. 2024;18(3):960–971. doi: 10.1007/s11764-023-01346-9.
- Silverman AL, Herzog AA, Silverman DI. Hearts and minds: Stress, anxiety, and depression: Unsung risk factors for cardiovascular disease. Cardiol Rev. 2019;27(4):202–207. doi: 10.1097/CRD.0000000000000228.
- Wang X, Wang N, Zhong L, Wang S, Zheng Y, Yang B, Zhang J, Lin Y, Wang Z. Prognostic value of depression and anxiety on breast cancer recurrence and mortality: A systematic review and meta-analysis of 282,203 patients. Mol Psychiatry. 2020;25(12):3186–3197. doi: 10.1038/s41380-020-00865-6.
- Tillmann T, Läll K, Dukes O, Veronesi G, Pikhart H, Peasey A, Kubinova R, Kozela M, Pajak A, Nikitin Y, Malyutina S, Metspalu A, Esko T, Fischer K, Kivimäki M, Bobak M. Development and validation of two SCORE-based cardiovascular risk prediction models for Eastern Europe: a multicohort study. Eur Heart J. 2020;41(35):3325–3333. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa571. Erratum in: Eur Heart J. 2021;42(6):670. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa875.
Дополнительные файлы