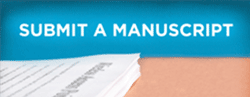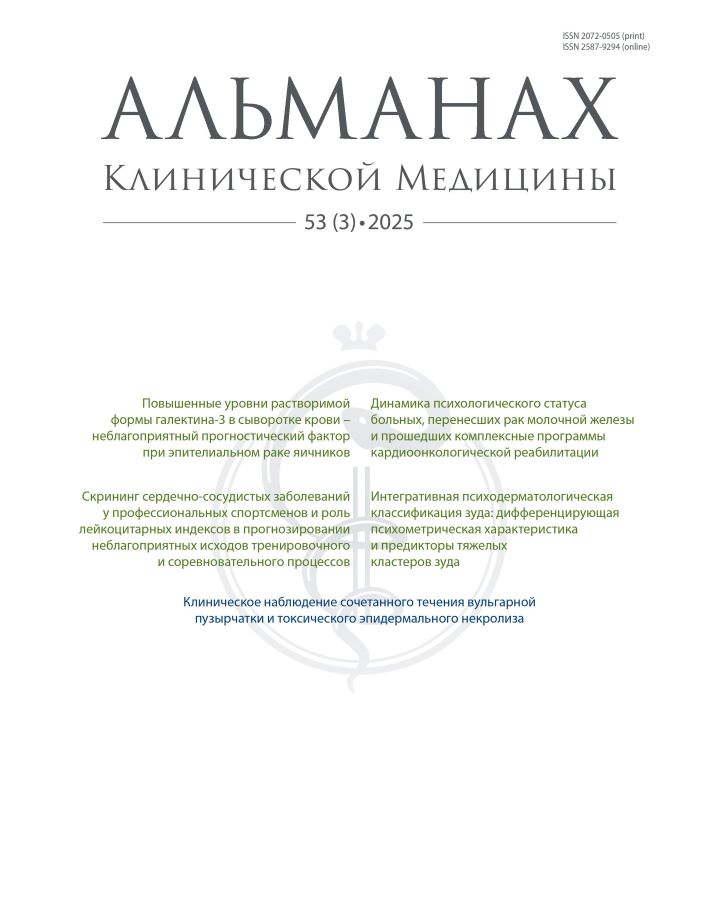Integrative psychodermatological typology of itch: the differentiating psychometric characteristics and predictors of severe itch clusters
- Authors: Michenko A.V.1,2,3,4, Lvov A.N.1,2, Kamalov A.A.2, Kruglova L.S.1, Romanov D.V.5,6
-
Affiliations:
- Central State Medical Academy of Department for Presidential Affairs of the Russian Federation
- Medical Scientific and Educational Institute, M.V. Lomonosov Moscow State University
- International Institute of Psychosomatic Health
- Institute of Plastic Surgery and Cosmetology
- I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)
- Scientific Center for Mental Health
- Issue: Vol 53, No 3 (2025)
- Pages: 145-159
- Section: ARTICLES
- Published: 01.10.2025
- URL: https://almclinmed.ru/jour/article/view/17496
- DOI: https://doi.org/10.18786/2072-0505-2025-53-013
- ID: 17496
Cite item
Full Text
Abstract
Background. Itch is a key dermatological symptom with variety of clinical characteristics, provoking and etiological factors, as well as consequences, including its impact on psychological parameters. Previously, we have proposed an integrative psychodermatological typology of itch based on the assessment of its duration and impact on quality of life.
Aim: Based on a comparative clinical and psychometric assessment, to rank by severity the types of itch previously identified according to the chronicity criteria and impact on quality of life, taking into account their associations with psychosomatic characteristics (anxiety, depression, dysmorphophobia, perceived stress, and stigmatization), and to determine the predictors of a patient getting into the groups with severe types of itch.
Methods: This was a multicenter, cross-sectional observational study conducted in three outpatient dermatology clinics from November 2021 to December 2024. During the initial study step, 203 patients with itch were selected for subsequent analysis from those with atopic dermatitis (n = 106), psoriasis (n = 101), acne (n = 104), melanocytic nevi (n = 105), melanoma (n = 88), and skin toxic reactions to anti-tumor treatments (n = 93). Based on a two-step cluster analysis of seven quantitative characteristics of itch (intensity, numerical rating scale), frequency, impact on everyday life, communication with others, sleep, life satisfaction and mood (5PLQ), as well as one categorical variable qualifying itch as acute / chronic (less / more than 6 weeks), we have identified four itch clusters (types): 1) chronic itch with a little impact on quality of life; 2) acute itch with a little impact on quality of life; 3) acute itch with a strong impact on quality of life; 4) chronic itch with a strong impact on quality of life.
In this study (step 2), the types of itch identified were compared depending to the severity of associated psychosomatic disorders according to psychometric evaluation for anxiety (GAD-2), depression (PHQ-2, both parts of PHQ-4 anxiety and depression screening scale), for perceived stress (PSS-10), stigmatization (PSQ), and dysmorphophobia (DCQ). We also looked for predictors of severe itch types.
Results: The study included 203 patients with itch and various dermatoses and skin neoplasms, as well as skin toxic reactions to antitumor therapy (71.9% women, median age 45 years, 95% confidence interval [CI]: 30–60 years). The patients with the identified four types of itch did not differ in terms of education (p = 0.07), marital status (p = 0.653), employment (p = 0.124), and body mass index (p = 0.192). There were significant differences between the patients with different types of itch on all the scales used and the parameters evaluated, with an increase in parameters from cluster 1 to cluster 4, respectively, as follows: the median total score of anxiety and depression (PHQ-4: 3,00; 3,00; 5,00; 8,00; p < 0,001), anxiety score (GAD-2: 2; 2; 3; 4; p < 0.001), depression (PHQ-2: 1; 1; 3; 3; p < 0.001), dysmorphophobia score (DCQ: 5; 5; 5; 11; p < 0.001), stigmatization level (PSQ: 11; 16; 17; 26.5; p < 0.001), the proportion of patients with depression (17.7; 17.8; 51.4; 65.9%; p < 0.001), anxiety (15.2; 28.9; 51.4; 65.9%; p < 0.001) and dysmorphophobia (6.3; 4.4; 17.1; 34.1; p < 0.001) above diagnostic thresholds, the level of perceived stress on the PSS-10 scale (p < 0.001). Dysmorphophobia parameters and the perceived stigmatization level were the predictors of more severe types of itch: an increase in these indices was associated with an increase in the odds ratio (OR) of getting into itch clusters 3 and 4 (OR 1.77, 95% CI: 1.33–2.36 and OR 1.66, 95% CI: 1.25–2.19, respectively).
Conclusion: The validity of the previously proposed by us typology is confirmed by identification of statistically significant differences found in this study with the psychometric assessment of associated psychosomatic characteristics. The increments in the parameters from the 1st to the 4th cluster allow us to rank the previously selected types of itch according to severity: 1) chronic itch, which has little effect on quality of life, as mild; 2) acute itch with little effect on quality of life as mild-to-moderate; 3) acute itch severely affecting quality of life, as moderate-to severe; 4) chronic itch with strong effects on quality of life, as severe one. Differentiation of the types of itch by severity is of practical importance, since it allows us to reasonably identify groups of patients most severely affected by and potentially being in need of comprehensive interdisciplinary management.
Keywords
Full Text
Разработка типологии зуда – фундаментальная задача дерматологии, решение которой послужит оптимизации подходов к ведению пациентов с острым и хроническим зудом различной этиологии.
Разработанные до настоящего времени классификации зуда основаны преимущественно на оценке этиологических и патофизиологических факторов. В 2003 г. R. Twycross и соавт. вычленили 5 типов зуда. Первый – пруритоцептивный, или кожный, зуд, вызванный стимуляцией свободных нервных окончаний С-волокон каким-либо пруритогеном, например выделяющимися в коже нейропептидами или цитокинами при дерматите. Второй тип – невропатический зуд, обусловленный повреждением нервных волокон на любом участке афферентного пути передачи сигнала зуда (например, при множественном склерозе, постгерпетической невралгии, парестетической ноталгии). Третий тип – нейрогенный зуд, имеющий центральное происхождение, но не ассоциированный с повреждением нервных клеток (например, вследствие накопления эндогенных опиоидов, что наблюдается при холестазе или употреблении опиоидов либо при некоторых психиатрических расстройствах). Четвертый – психогенный зуд, возникающий при воздействии психологических факторов в отсутствие психиатрического заболевания. В отдельный тип обособлен смешанный зуд [1]. Эта классификация отражает нейрофизиологический подход к систематике зуда, основанный на патофизиологических механизмах его развития, и предлагает упорядоченную группировку его типов в соответствии с вовлеченными участками сигнального пути передачи ощущения зуда. Вместе с тем данная классификация имеет ряд ограничений: отсутствует категория зуда неясной этиологии, некоторые заболевания попадают сразу в несколько категорий.
S. Ständer и соавт. избрали тактику приближения к клинической практике и предприняли попытку объединить дерматологический статус пациента, определяемый при клиническом осмотре, и этиологическую природу зуда, предложив в 2007 г. двухэтапную классификацию зуда [2]. На первом этапе только на основании данных клинической картины предложено отнести пациента к одной из следующих категорий: зуд при высыпаниях (а), зуд без высыпаний (b, c, d), хронические экскориации (a, b, c, d). Буквенные обозначения в скобках описывают второй этап классификации, на котором уже с учетом результатов дополнительных исследований (патоморфологического, лабораторных, радиологического) и уточнения этиологической природы зуд охарактеризован как дерматологический (а), системный (b), неврологический (с), психогенный (психиатрический) (d), смешанный (е), другой (f). Эта классификация предусматривает полиморфизм клинических дерматологических проявлений зуда различной этиологии и позволяет отразить сложные клинические случаи, когда у пациента с заболеванием кожи имеется зуд, обусловленный наличием сопутствующего системного заболевания.
Позже, в 2016 г., данная классификация зуда была детализирована S. Ständer [3], которая дополнила ее критерием хронификации: зуд, длящийся менее 6 месяцев, характеризуется как острый, более 6 месяцев – как хронический. Была также обобщена терминология для обозначения особых типов зуда в соответствии с этиологической принадлежностью: атопический, диабетогенный, печеночный, нейропатический, паранеопластический, продромальный, зуд неизвестного происхождения, сенильный, соматоформный, уремический. Это позволило дифференцировать типы зуда, возникающего, прежде всего, в отсутствие высыпаний. И хотя эта классификация представляется наиболее всеобъемлющей, она не отражает степень тяжести и бремя зуда.
В последующих исследованиях большое внимание уделялось изучению психосоматических аспектов зуда. На основании результатов этих исследований мы предложили клиническую классификацию зуда [4, 5], включающую пруритогенный, системный, неврологический / нейропатический, психогенный, функциональный, идиопатический, соматоформный (при психических расстройствах, включая амплифицированный зуд), многофакторный (при сочетании двух и более вышеперечисленных причин). Тем самым была детализирована психосоматическая составляющая зуда в дерматологической практике, предложена и подробно изучена новая форма зуда, лежащая в основе феномена соматизации.
И наконец, в 2020 г. F. Cevikbas и соавт. предприняли попытку обобщить имеющиеся представления о зуде и разработали его классификацию на основании различных этиологических факторов и фактора хронификации [6], выделив острый (продолжающийся менее 6 недель), хронический (продолжающийся 6 недель и дольше), нейрогенный, нейропатический, пруритоцептивный, психогенный зуд (в том числе при дерматозойном бреде).
Таким образом, предложенные до настоящего времени классификации зуда опираются преимущественно на этиопатогенетические параметры и не позволяют оценить истинное бремя зуда для пациентов, а также тяжесть зуда с точки зрения ассоциированных психометрических характеристик пациентов. Для улучшения понимания психосоматических характеристик зуда и оптимизации работы с пациентами с точки зрения бремени этого субъективного ощущения требуется разработка систематики зуда, отражающей связь со значимыми психосоматическими параметрами.
Ранее нами был проведен кластерный анализ данных 203 пациентов с зудом, который позволил выделить 4 типа зуда, ранжированных в следующем порядке: 1) хронический, слабо влияющий на качество жизни; 2) острый, слабо влияющий на качество жизни; 3) острый, сильно влияющий на качество жизни; 4) хронический, сильно влияющий на качество жизни [7]. При сопоставлении выделенных кластеров (типов) зуда по полу отличий не установлено. В то же время обнаружено, что от хронического зуда, сильно влияющего на качество жизни, чаще страдали пациенты более молодого возраста, и наоборот, кластер хронического зуда, слабо влияющего на качество жизни, характеризовался наиболее высоким показателем среднего возраста (р = 0,022). Показано преобладание атопического дерматита в 3-м и 4-м кластерах зуда и кожных токсических реакций в 1-м и 2-м кластерах зуда (р < 0,01), что отражает наиболее высокую частоту зуда у пациентов с указанными заболеваниями кожи и клинические отличия зуда в данных группах пациентов. Что касается пациентов с псориазом, большинство попало в 1-й и 2-й кластеры зуда, однако больше трети пациентов распределились в 3-й (12%) и 4-й (24%) кластеры, следовательно, существенная часть этих пациентов испытывает значительное бремя зуда [7]. Пациенты с атопическим дерматитом ожидаемо распределились главным образом в кластеры острого (18,4%) и хронического (36,8%) зуда, сильно влияющего на качество жизни [7]. Интересные особенности продемонстрировали пациенты с меланомой и меланоцитарными невусами: если первые почти одинаково часто испытывали острый (46,2%) либо хронический (53,8%) зуд, слабо влияющий на качество жизни, то у вторых в 90% случаев был острый зуд, слабо влияющий на качество жизни [7]. Обращает на себя внимание, что для пациентов с акне был характерен только острый зуд, который преимущественно слабо влиял на качество жизни (76,2%), тем не менее почти четверть пациентов фиксировала сильное влияние зуда на качество жизни (23,8%) [7]. Отмечено преобладание в 1-м и 2-м кластерах (хронический или острый зуд, слабо влияющий на качество жизни) пациентов с легкими формами заболевания кожи, а больных с тяжелыми проявлениями поражения кожи – в 3-м и 4-м кластерах (хронический или острый зуд, сильно влияющий на качество жизни).
Цель настоящей работы – на основании сравнительного клинико-психометрического обследования типы зуда, выделенные ранее по критериям хронификации и влияния на качество жизни пациентов, ранжировать по степени тяжести с учетом ассоциации с психосоматическими характеристиками (тревогой, депрессией, дисморфофобией, уровнем воспринимаемого стресса, стигматизацией) и определить предикторы попадания пациента в группы зуда высокой степени тяжести.
Материал и методы
Дизайн исследования
Работа проведена в рамках многоцентрового обсервационного поперечного сплошного неконтролируемого наблюдательного исследования. Этапы исследования представлены на рис. 1.
Рис. 1. Дизайн исследования. DCQ (Dysmorphic Concern Questionnaire) – опросник дисморфофобии, GAD-2 (Generalized Anxiety Disorder-2) – шкала скрининговой оценки тревоги, PHQ-2 (Two Item Patient Health Questionnaire) – шкала скрининговой оценки депрессии, PHQ-4 (Four Item Patient Health Questionnaire) – шкала скрининговой оценки тревоги и депрессии, PSQ (Perceived Stigmatization Questionnaire) – опросник воспринимаемой стигматизации, PSS-10 (Perceived Stress Scale-10) – шкала оценки воспринимаемого стресса, 5PLQ (PruNet Lifequality Questionnaire) – опросник «Зуд и качество жизни – 5», ЧРШ – числовая рейтинговая шкала
Критерии соответствия
Критериями включения в исследование служили возраст старше 18 лет; наличие зуда; нозологическая верификация заболевания кожи или типа кожной токсической реакции дерматологом по данным клинической, дерматоскопической картины, по показаниям – при помощи патоморфологического исследования; нозологическая верификация доброкачественного новообразования кожи дерматологом по данным клинической, дерматоскопической картины, по показаниям – при помощи патоморфологического исследования; нозологическая верификация злокачественного новообразования кожи онкологом в условиях онкологического учреждения; подписание добровольного информированного согласия на участие в исследовании; участие в ранее проведенном нами исследовании психометрических характеристик пациентов с зудящими и традиционно не относящимися к зудящим дерматозами, новообразованиями кожи, кожными токсическими реакциями противоопухолевой терапии [7].
Критериями невключения были возраст менее 18 лет; наличие тяжелых психических расстройств; неспособность заполнить опросник, предложенный в рамках исследования. Критерий исключения – отказ пациента от патоморфологической верификации диагноза при наличии клинических и/или дерматоскопических показаний к биопсии.
Условия проведения
Набор пациентов осуществлен в период с ноября 2021 по декабрь 2024 г. на клинических базах кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента РФ: Медицинский научно-образовательный институт Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Международный институт психосоматического здоровья, Институт пластической хирургии и косметологии.
Продолжительность исследования
Исследование проводилось с февраля 2021 по январь 2025 г.
Основной исход исследования
Выделенные на предыдущем этапе типы (кластеры) зуда в настоящей работе сравнивали по клиническим и психосоматическим параметрам: индекс массы тела, тревога (средний балл по шкале, выявленная тревога по шкале), депрессия (средний балл по шкале, выявленная депрессия по шкале), дисморфофобия (средний балл по шкале, выявленная дисморфофобия по шкале), уровень воспринимаемого стресса, стигматизация.
Для выявления естественного разбиения набора данных, описывающих зуд, обследованная выборка пациентов была разделена на предыдущем этапе [7] на кластеры, в соответствии с которыми были выделены четыре подгруппы зуда: хронический, слабо влияющий на качество жизни; острый, слабо влияющий на качество жизни; острый, сильно влияющий на качество жизни; хронический, сильно влияющий на качество жизни (этап 1, см. рис. 1). В настоящем исследовании (этап 2, см. рис. 1) проведена сравнительная характеристика пациентов с выделенными типами зуда по социодемографическим, соматическим (индекс массы тела) и психосоматическим параметрам (показатели уровня тревоги и депрессии по шкалам PHQ-4, PHQ-2, GAD-2; уровень стигматизации и дисморфофобии по шкалам PSQ и DCQ; доля пациентов с выявленными по шкалам тревогой, депрессией, дисморфофобией; уровень воспринимаемого стресса по шкале PSS-10). Далее оценены предикторы попадания в тот или иной кластер зуда.
Методы регистрации исходов
При изучении психосоматических характеристик пациентов с выделенными типами зуда использовали комплекс психометрических шкал, валидированных для применения на русском языке: шкала скрининговой оценки тревоги GAD-2 (англ. Generalized Anxiety Disorder-2) [8] и шкала скрининговой оценки депрессии PHQ-2 (англ. Two Item Patient Health Questionnaire) [9], входящие в состав шкалы скрининговой оценки тревоги и депрессии PHQ-4 (англ. Four Item Patient Health Questionnaire) [10]; шкала оценки воспринимаемого стресса PSS-10 (англ. Perceived Stress Scale-10) [11]; опросник дисморфофобии DCQ (англ. Dysmorphic Concern Questionnaire) [12]; опросник воспринимаемой стигматизации PSQ (англ. Perceived Stigmatization Questionnaire) [13].
Этическая экспертиза
Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента РФ (протокол № 01/2021 от 04.02.2021).
Статистический анализ
Принципы расчета размера выборки. Расчет размера выборки не проводили, в исследование включены все амбулаторные пациенты, соответствующие критериям включения и невключения, обратившиеся на прием к дерматологу.
Методы статистического анализа данных. Статистический анализ выполнен с использованием программы StatTech v. 4.8.7 (ООО «Статтех», Россия).
Количественные показатели оценивали на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия Шапиро – Уилка (при числе исследуемых менее 50) или критерия Колмогорова – Смирнова (при числе исследуемых более 50). Количественные показатели, выборочное распределение которых соответствовало нормальному, описывали с помощью средних арифметических величин (M) и стандартных отклонений (SD). В качестве меры репрезентативности для средних значений указывали границы 95% доверительного интервала (ДИ). В случае отсутствия нормального распределения количественные данные описывали с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1; Q3). Для категориальных данных указывали абсолютные значения и процентные доли; 95% ДИ для процентных долей рассчитывали по методу Клоппера – Пирсона.
Сравнение трех и более групп по количественному показателю, распределение которого в каждой из групп соответствовало нормальному, выполняли с помощью однофакторного дисперсионного анализа, апостериорные сравнения проводили с помощью критерия Тьюки (при условии равенства дисперсий). Сравнение трех и более групп по количественному показателю, распределение которого отличалось от нормального, выполняли с помощью критерия Краскела – Уоллиса, апостериорные сравнения – с помощью критерия Данна с поправкой Холма. Сравнение процентных долей при анализе многопольных таблиц сопряженности проводили, применяя критерий хи-квадрат Пирсона. Апостериорные сравнения выполняли с помощью критерия хи-квадрат Пирсона с поправкой Холма. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.
Далее статистический анализ выполняли с использованием языка программирования Python (версия 3.11) и следующих библиотек: pandas и NumPy для предобработки данных, OrderedModel (statsmodels) для построения порядковой логистической регрессии, scikit-learn для стандартизации переменных. Анализ мультиколлинеарности проводили через фактор инфляции дисперсии (statsmodels). Визуализацию создавали средствами matplotlib и seaborn. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.
Методология анализа. Поскольку принадлежность к кластерам зуда представляет собой упорядоченную категориальную переменную с четырьмя уровнями (кластеры 1–4), для выявления значимых предикторов данных кластеров был использован метод многофакторной упорядоченной логистической регрессии.
На этапе предварительного анализа в качестве независимых переменных были проанализированы все потенциальные предикторы (возраст, индекс массы тела, общий балл воспринимаемой стигматизации (PSQ), показатель стресса по шкале PSS-10, баллы депрессии (PHQ-2) и тревоги (GAD-2), общий балл по опроснику GHQ-4 и показатель дисморфофобии (DCQ)). Перед построением модели были исключены записи с пропущенными значениями, проведена проверка на мультиколлинеарность посредством расчета коэффициента инфляции дисперсии (англ. variance inflation factor, VIF). Переменные с VIF более 10 (возраст, индекс массы тела, баллы депрессии и тревоги, общий балл PHQ-4) были исключены из дальнейшего анализа. В финальную модель вошли предикторы с допустимым уровнем мультиколлинеарности: PSQ, PSS-10 и DCQ. Данные предикторы были стандартизированы (z-преобразование) для обеспечения сопоставимости коэффициентов и улучшения сходимости модели. Оценку параметров модели проводили с использованием метода L-BFGS с увеличением максимального числа итераций до 5000 для обеспечения устойчивости решения.
Результаты
Участники исследования
В настоящей работе приведены результаты обследования 203 пациентов, отобранных по критерию наличия зуда из ранее представленной выборки, включавшей 597 пациентов1 как с зудящими дерматозами, так и с традиционно не относящимися к зудящим заболеваниями кожи, кожными токсическими реакциями противоопухолевой терапии, а также с доброкачественными и злокачественными меланоцитарными новообразованиями кожи, описанных в нашей предыдущей публикации [7].
Социодемографические, клинические и психосоматические характеристики пациентов (n = 203) представлены в табл. 1 и 2. В обследованной выборке преобладали пациенты женского пола, молодого и среднего возраста, медиана показателя индекса массы тела приближалась к верхней границе нормы. Значительная часть выборки была представлена пациентами с неполным высшим образованием, не состоящими в браке, работающими. Медианы исследуемых психосоматических показателей (тревога, депрессия, дисморфофобия) также находились ниже границ отсечек для констатации тревоги, депрессии, дисморфофобии (3 балла для тревоги и депрессии, 14 баллов для дисморфофобии). Показатели шкал для оценки стигматизации и уровня воспринимаемого стресса были в пределах средних значений. В целом по выборке наличие тревоги или депрессии по результатам скринингового психометрического обследования зарегистрировано более чем у трети пациентов, дисморфофобии – у каждого седьмого пациента.
Таблица 1. Социодемографические, соматические и психосоматические характеристики обследованной выборки (количественные) (n = 203)
Показатель | Значение | Q1; Q3 / 95% ДИ | Минимальное значение | Максимальное значение |
Возраст, лет, Me | 45,00 | 30,00; 60,00 | 18,00 | 85,00 |
Соматический параметр | ||||
Индекс массы тела, кг/м2, Me | 24,00 | 21,00; 28,00 | 15,00 | 44,00 |
Психосоматические параметры | ||||
Стигматизация, баллы по шкале PSQ, Me | 15,00 | 9,00; 27,00 | 0,00 | 58,00 |
Уровень воспринимаемого стресса, баллы по шкале PSS-10, M ± SD | 18,54 ± 6,98 | 17,58–19,51 | 0,00 | 35,00 |
Депрессия, баллы по шкале PHQ-2, Me | 2,00 | 0,00; 3,00 | 0,00 | 6,00 |
Тревога, баллы по шкале GAD-2, Me | 2,00 | 1,00; 4,00 | 0,00 | 8,00 |
Тревога и депрессия, баллы по шкале PHQ-4, Me | 4,00 | 2,00; 6,00 | 0,00 | 12,00 |
Дисморфофобия, баллы по шкале DCQ, Me | 5,00 | 3,00; 10,00 | 0,00 | 21,00 |
DCQ (Dysmorphic Concern Questionnaire) – опросник дисморфофобии, GAD-2 (Generalized Anxiety Disorder-2) – шкала скрининговой оценки тревоги, PHQ-2 (Two Item Patient Health Questionnaire) – шкала скрининговой оценки депрессии, PHQ-4 (Four Item Patient Health Questionnaire) – шкала скрининговой оценки тревоги и депрессии, PSQ (Perceived Stigmatization Questionnaire) – опросник воспринимаемой стигматизации, PSS-10 (Perceived Stress Scale-10) – шкала оценки воспринимаемого стресса, ДИ – доверительный интервал
Таблица 2. Социодемографические и психосоматические характеристики обследованной выборки (категориальные) (n = 203)
Показатель | Количество пациентов | 95% ДИ | |
абс. | % | ||
Социодемографические параметры | |||
Пол: | |||
мужской | 57 | 28,1 | 22,0–34,8 |
женский | 146 | 71,9 | 65,2–78,0 |
Образование: | |||
среднее | 53 | 26,5 | 20,5–33,2 |
неполное высшее | 97 | 48,5 | 41,4–55,7 |
высшее | 50 | 25,0 | 19,2–31,6 |
Брак: | |||
в браке | 58 | 28,7 | 22,6–35,5 |
не в браке | 144 | 71,3 | 64,5–77,4 |
Занятость: | |||
пациент не указал | 21 | 10,3 | 6,5–15,4 |
на пенсии | 54 | 26,6 | 20,7–33,2 |
на больничном | 4 | 2,0 | 0,5–5,0 |
студент | 23 | 11,3 | 7,3–16,5 |
работает | 101 | 49,8 | 42,7–56,8 |
Психосоматические параметры | |||
Депрессия: | |||
отсутствие | 134 | 66,0 | 59,0–72,5 |
наличие | 69 | 34,0 | 27,5–41,0 |
Тревога: | |||
отсутствие | 129 | 63,5 | 56,5–70,2 |
наличие | 74 | 36,5 | 29,8–43,5 |
Дисморфофобия: | |||
отсутствие | 175 | 86,2 | 80,7–90,6 |
наличие | 28 | 13,8 | 9,4–19,3 |
ДИ – доверительный интервал
Сравнительная характеристика типов зуда
Далее было проведено сравнительное исследование выделенных четырех кластеров зуда. Поскольку их сопоставление по полу, возрасту и диагнозам было представлено в нашей предыдущей работе [7], рассмотрим ранее не обсуждаемые параметры.
Социодемографические и соматические параметры. Как видно из данных табл. 3, пациенты изучаемых кластеров зуда не отличались по уровню образования, семейному положению и занятости. По индексу массы тела отличий также не было.
Таблица 3. Описательная статистика переменных в зависимости от кластера зуда
Показатель / категория | Кластеры зуда | Значение p | |||
Кластер 1 (1) | Кластер 2 (2) | Кластер 3 (3) | Кластер 4 (4) | ||
Социодемографические характеристики | |||||
Образование, абс. (%): | |||||
среднее | 17 (21,3) | 16 (36,4) | 12 (34,3) | 10 (22,7) | 0,070 |
неполное высшее | 37 (46,2) | 18 (40,9) | 20 (57,1) | 23 (52,3) | |
высшее | 26 (32,5) | 10 (22,7) | 3 (8,6) | 11 (25,0) | |
Семейное положение, абс. (%): | |||||
в браке | 24 (30,4) | 13 (29,5) | 7 (20,0) | 14 (31,8) | 0,653 |
не в браке | 55 (69,6) | 31 (70,5) | 28 (80,0) | 30 (68,2) | |
Занятость, абс. (%): | |||||
пациент не указал | 7 (8,9) | 7 (15,6) | 3 (8,6) | 4 (9,1) | 0,124 |
на пенсии | 16 (20,3) | 18 (40,0) | 8 (22,9) | 12 (27,3) | |
на больничном | 1 (1,3) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 3 (6,8) | |
студент | 11 (13,9) | 3 (6,7) | 3 (8,6) | 6 (13,6) | |
работает | 44 (55,7) | 17 (37,8) | 21 (60,0) | 19 (43,2) | |
Соматическая характеристика | |||||
ИМТ, кг/м2, Me [Q1; Q3] | 0,192 | ||||
Психосоматические характеристики | |||||
Тревога и депрессия, баллы по шкале PHQ-4, Me [Q1; Q3] | < 0,001 p3–1 = 0,007 p4–1 < 0,001 p3–2 = 0,045 p4–2 < 0,001 p4–3 = 0,044 | ||||
Депрессия, баллы по шкале PHQ-2, Me [Q1; Q3] | < 0,001 p3–1 = 0,004 p4–1 < 0,001 p3–2 = 0,004 p4–2 < 0,001 | ||||
Тревога, баллы по шкале GAD-2, Me [Q1; Q3] | < 0,001 p4–1 < 0,001 p4–2 < 0,001 p4–3 = 0,017 | ||||
Уровень воспринимаемого стресса, баллы по шкале PSS-10, M ± SD | 17,49 ± 6,94 | 16,27 ± 7,35 | 20,20 ± 6,08 | 21,43 ± 6,24 | < 0,001 p1–4 = 0,012 p2–4 = 0,002 |
Дисморфофобия, баллы по шкале DCQ, Me [Q1; Q3] | < 0,001 p4–1 < 0,001 p4–2 = 0,013 | ||||
Стигматизация, баллы по шкале PSQ, Me [Q1; Q3] | < 0,001 p4–1 < 0,001 | ||||
Депрессия, абс. (%): | < 0,001 p1–3 < 0,001 p1–4 < 0,001 p2–3 = 0,004 p2–4 < 0,001 | ||||
отсутствие | 65 (82,3) | 37 (82,2) | 17 (48,6) | 15 (34,1) | |
наличие | 14 (17,7) | 8 (17,8) | 18 (51,4) | 29 (65,9) | |
Тревога, абс. (%): | < 0,001 p1–3 < 0,001 p1–4 < 0,001 p2–4 < 0,001 | ||||
отсутствие | 67 (84,8) | 32 (71,1) | 17 (48,6) | 13 (29,5) | |
наличие | 12 (15,2) | 13 (28,9) | 18 (51,4) | 31 (70,5) | |
Дисморфофобия, абс. (%): | < 0,001 p1–4 < 0,001 p2–4 = 0,002 | ||||
отсутствие | 74 (93,7) | 43 (95,6) | 29 (82,9) | 29 (65,9) | |
наличие | 5 (6,3) | 2 (4,4) | 6 (17,1) | 15 (34,1) | |
DCQ (Dysmorphic Concern Questionnaire) – опросник дисморфофобии, GAD-2 (Generalized Anxiety Disorder-2) – шкала скрининговой оценки тревоги, PHQ-2 (Two Item Patient Health Questionnaire) – шкала скрининговой оценки депрессии, PHQ-4 (Four Item Patient Health Questionnaire) – шкала скрининговой оценки тревоги и депрессии, PSQ (Perceived Stigmatization Questionnaire) – опросник воспринимаемой стигматизации, PSS-10 (Perceived Stress Scale-10) – шкала оценки воспринимаемого стресса, ИМТ – индекс массы тела
Суммарный балл шкалы скрининговой оценки тревоги и депрессии PHQ-4. По показателю суммарного балла тревоги и депрессии четыре кластера зуда значимо отличались (р < 0,001, см. табл. 3). Следует подчеркнуть, что кластеры с острым и хроническим зудом, слабо влияющим на качество жизни, характеризовались наименьшими и почти одинаковыми показателями по шкале PHQ-4. В свою очередь, в кластерах с острым и хроническим зудом, сильно влияющим на качество жизни, зарегистрировано значимое повышение показателей тревоги и депрессии по шкале PHQ-4. Важно отметить, что у пациентов 4-го кластера (с хроническим зудом, сильно влияющим на качество жизни) показатели были максимальными, таким образом, этот кластер можно считать наиболее тяжелым (рис. 2А). Различия наглядно проиллюстрированы попарными сравнениями, где значимые отличия выявлены при сравнении всех кластеров (см. рис. 2А).
Рис. 2. Сравнительная характеристика психометрических показателей в группах с различным типом зуда (кластер 1 – хронический зуд, слабо влияющий на качество жизни (КЖ); кластер 2 – острый зуд, слабо влияющий на КЖ; кластер 3 – острый зуд, сильно влияющий на КЖ; кластер 4 – хронический зуд, сильно влияющий на КЖ): А – суммарный балл по шкале скрининговой оценки тревоги и депрессии; Б – уровень депрессии; В – доли пациентов с выявленной депрессией; Г – уровень тревоги; Д – доли пациентов с выявленной тревогой; Е – уровень воспринимаемого стресса; Ж – показатель дисморфофобии; З – доли пациентов с верифицированной дисморфофобией; И – уровень воспринимаемой стигматизации. На всех графиках четко прослеживается общая тенденция к увеличению показателей от 1-го к 4-му типу зуда. DCQ (Dysmorphic Concern Questionnaire) – опросник дисморфофобии, GAD-2 (Generalized Anxiety Disorder-2) – шкала скрининговой оценки тревоги, PHQ-2 (Two Item Patient Health Questionnaire) – шкала скрининговой оценки депрессии, PHQ-4 (Four Item Patient Health Questionnaire) – шкала скрининговой оценки тревоги и депрессии, PSQ (Perceived Stigmatization Questionnaire) – опросник воспринимаемой стигматизации, PSS-10 (Perceived Stress Scale-10) – шкала оценки воспринимаемого стресса
Уровень депрессии (суммарный балл по шкале PHQ-2). По показателю уровня депрессии по шкале PHQ-2 выделенные четыре типа зуда различались с очень высокой значимостью (р < 0,001). В 1-м и 2-м кластерах показатели шкалы PHQ-2 были близкими и наименьшими, во 2-м и 3-м кластерах – также близкими, но наивысшими (рис. 2Б), что указывает на потенциальную ассоциацию сильного влияния зуда на качество жизни и симптомов депрессии.
Попарные сравнения также демонстрируют значимые различия при сравнении групп с зудом, сильно и слабо влияющим на качество жизни (см. рис. 2Б). Таким образом, по показателю симптомов депрессии изучаемые в настоящей работе типы зуда значимо отличаются, что свидетельствует о значимости силы влияния зуда на качество жизни для формирования симптомов депрессии.
При сравнении кластеров зуда по доле пациентов с выявленной при скрининге депрессией обнаружена схожая закономерность: при 1-м и 2-м типах зуда доля таких пациентов была минимальной, а при 3-м и 4-м типах зуда последовательно увеличивалась (рис. 2В).
Уровень тревоги (суммарный балл по шкале GAD-2). Четыре группы пациентов с различными типами зуда различались по уровню тревоги с высокой значимостью (р < 0,001). Самые низкие показатели уровня тревоги отмечены при первых двух типах зуда (хронический, слабо влияющий на качество жизни; острый, слабо влияющий на качество жизни), самый высокий показатель был характерен для 4-го типа зуда (хронический, сильно влияющий на качество жизни) (рис. 2Г). Полученные результаты согласуются с данными литературы, иллюстрирующими прямую положительную корреляцию зуда и тревоги (чем сильнее зуд, тем выше уровень тревоги, и наоборот) [14].
При попарных сравнениях 1, 2 и 3-й типы зуда имели значимые отличия по сравнению с 4-м типом (рис. 2 Г, Д). Это подтверждает, что 4-й тип зуда самый тяжелый.
Уровень воспринимаемого стресса. При сравнении различных типов зуда по уровню воспринимаемого стресса выявлены значимые отличия (см. табл. 3). Самый низкий уровень стресса выявлен при 1-м типе зуда, а самый высокий – при 4-м (рис. 2Е). Примечательно, что тяжесть ассоциированного стресса увеличивалась пропорционально росту влияния зуда на качество жизни от 1-го к 4-му кластеру. При межгрупповых сравнениях типы зуда также значимо отличались по уровню воспринимаемого стресса (1-й и 4-й типы зуда, 2-й и 4-й типы зуда), что подчеркивает нарастание выраженности ассоциации со стрессом от 1-го и 2-го кластеров к 3-му и 4-му.
Дисморфофобия. По показателю суммарного балла шкалы скрининговой оценки дисморфофобии изучаемые четыре типа (кластера) зуда также значимо отличались (см. табл. 3). При этом наименьшие и сопоставимые показатели отмечены в 1, 2 и 3-м кластерах, и только в 4-м кластере зарегистрированы высокие показатели дисморфофобии (рис. 2Ж), что указывает на ассоциацию дисморфофобии с хроническим зудом, сильно влияющим на качество жизни. При попарном сравнении значимые различия были выявлены только при сравнении 1-го и 4-го кластеров (p = 0,38) и 2-го и 4-го кластеров (р < 0,001), что может указывать на значительный вклад хронического зуда, сильно влияющего на качество жизни, в нарушения образа тела у пациентов с хроническими зудящими дерматозами. Эти данные также подчеркивают большую значимость именно параметров влияния зуда на качество жизни и его хронификации, а не параметра интенсивности зуда, для развития дисморфофобии.
Доля пациентов с выявленной по данным опросника дисморфофобией возрастала от 1-го кластера к 4-му (рис. 2З), также указывая на увеличение тяжести кластеров по критерию ассоциации с психосоматическими расстройствами.
Уровень воспринимаемой стигматизации. Уровень стигматизации при различных типах зуда значимо отличался (см. табл. 3). Отмечено увеличение суммарного балла по шкале PSQ по мере возрастания влияния зуда на качество жизни и хронификации зуда (рис. 2И).
Анализ предикторов попадания в выделенные кластеры зуда
При определении факторов, предсказывающих попадание пациента в тот или иной кластер зуда, регрессионный анализ выявил отсутствие статистически значимой связи показателя PSS-10 с тяжестью кластера зуда (p = 0,377). В соответствии с принципом построения наиболее экономной модели предиктор PSS-10 был исключен из финального анализа. Таким образом, в итоговой модели рассматривались только статистически значимые предикторы: PSQ и DCQ (табл. 4). Показатель дисморфофобии (DCQ) продемонстрировал наиболее выраженное влияние (p < 0,001). Это свидетельствует о том, что увеличение стандартизованного значения DCQ на одну единицу повышает шансы отнесения к более высокому кластеру в 1,77 раза (95% ДИ 1,33–2,36). Общий балл воспринимаемого стресса (PSQ) также показал значимую положительную связь с тяжестью кластера (отношение шансов 1,66, 95% ДИ 1,25–2,19; p < 0,001). Показатель по шкале PSS-10 не имел статистически значимой связи с тяжестью кластера зуда (p = 0,377).
Таблица 4. Результаты многофакторной порядковой логистической регрессии
Предиктор | Коэффициент (β) | SE | z | p | ОШ (95% ДИ) |
Уровень воспринимаемой стигматизации по шкале PSQ | 0,505 | 0,142 | 3,55 | < 0,001 | 1,66 (1,25–2,19) |
Показатель дисморфофобии по шкале DCQ | 0,573 | 0,146 | 3,93 | < 0,001 | 1,77 (1,33–2,36) |
Пороговые значения: | |||||
кластер 1 vs 2–4 | -0,551 | 0,152 | -3,61 | < 0,001 | – |
кластер 2 vs 3–4 | 0,039 | 0,137 | 0,28 | 0,776 | – |
кластер 3 vs 4 | -0,002 | 0,159 | -0,015 | 0,988 | – |
DCQ (Dysmorphic Concern Questionnaire) – опросник дисморфофобии, PSQ (Perceived Stigmatization Questionnaire) – опросник воспринимаемой стигматизации, SE – стандартная ошибка, ДИ – доверительный интервал, OШ – отношение шансов
Как видно из табл. 4, статистически значимыми оказались только пороговые значения, отделяющие кластер 1 от объединенных кластеров 2–4 (p < 0,001). Пороговые значения между кластерами 2 и 3–4 (p = 0,776), а также между кластерами 3 и 4 (p = 0,988) не достигли уровня статистической значимости, что свидетельствует об отсутствии четких границ между этими уровнями тяжести зуда в рамках данной модели.
Качественный анализ выявленных зависимостей показал, что с ростом показателя дисморфофобии вероятность принадлежности к кластеру 1 последовательно снижалась, в то время как вероятность отнесения к кластерам 3 и 4 увеличивалась. Аналогичная, хотя и менее выраженная динамика наблюдалась для показателя стресса.
Обсуждение
Отдельные исследователи как наиболее значимый параметр рассматривают характеристику интенсивности зуда и изучают психосоматические и патофизиологические особенности при зуде разной интенсивности; в их работах установлены значимые отличия по выраженности тревоги [15] и депрессии [16]. Наше исследование, напротив, показало, что основополагающей характеристикой является не интенсивность, а длительность существования зуда (острый или хронический) и его влияние на качество жизни. Характеристика интенсивности зуда в нашем исследовании имела меньшее значение, и в предварительном кластерном анализе разделение на кластеры (типы зуда) проводилось по параметрам длительности зуда и его влияния на качество жизни [7].
Хронический зуд, сильно влияющий на качество жизни, сопровождался наиболее высокими показателями по всем шкалам, использованным для оценки психосоматических характеристик пациентов. Это соотносится с данными исследований, согласно которым хронический зуд ассоциирован с повышенной частотой развития симптомов тревоги, депрессии и дисморфофобии [14, 17–19].
Примечательно, что хронический зуд, слабо влияющий на качество жизни, несмотря на его продолжительность, оказался в наименьшей степени ассоциирован с психосоматическими параметрами. Это указывает на неоднородность хронического зуда не только в плане его влияния на качество жизни, но и в плане связи с тревогой, депрессией, дисморфофобией, уровнем стресса и стигматизацией. Этот тип зуда нуждается в дальнейшем изучении, поскольку только дерматологическими параметрами (например, невысокой интенсивностью зуда) объяснить слабую ассоциацию длительно персистирующего зуда, слабо влияющего на качество жизни, с оцененными в настоящем исследовании базовыми психосоматическими параметрами (тревога, депрессия, дисморфофобия) не представляется возможным. Вероятно, речь может идти о механизмах контроля зуда с помощью эффективной терапии и/или психологических / поведенческих механизмах совладания (копинга) с персистирующим зудом относительно невысокой интенсивности. Действительно, хронический зуд у пациентов более старшего возраста и при меньшей его интенсивности был ассоциирован с минимально выраженными психосоматическими расстройствами, что потенциально может указывать на лучшее совладание с зудом пациентов старшей возрастной группы. Роль копинга в процессе адаптации к зуду и его преодолении пациентом подчеркивается некоторыми исследователями [20], однако ее оценка не входила в задачи настоящего исследования.
В свою очередь острый зуд, слабо либо сильно влияющий на качество жизни, отражал аналогичную ассоциацию силы влияния на психосоматические параметры пациентов, демонстрируя более высокую частоту и выраженность ассоциированных психосоматических расстройств при зуде, сильно влияющем на качество жизни. При этом показатели всегда занимали промежуточное положение между показателями пациентов с хроническим зудом, сильно либо слабо влияющим на качество жизни. Таким образом, данные две категории зуда, по всей вероятности, могут быть трактованы с учетом влияния на качество жизни и ассоциации с психосоматическими параметрами как среднелегкий зуд и среднетяжелый зуд.
Полученные данные подчеркивают значимое влияние зуда на качество жизни, роль зуда в формировании психосоматической составляющей клинической картины заболевания и правомерность включения критерия влияния зуда на качество жизни пациентов как основополагающего параметра для выделения новой психодерматологической типологии зуда.
Настоящее исследование имеет определенные ограничения. Поскольку дизайн исследования носил поперечный характер, дальнейшая динамика пациентов с острым зудом не отслеживалась и не представлялось возможным установить, какая часть из них перешла в категорию хронического зуда, слабо либо сильно влияющего на психосоматические характеристики. С этим также может быть связано промежуточное положение больных с острым зудом (независимо от его влияния на качество жизни) между хроническим зудом, слабо влияющим либо сильно влияющим на качество жизни.
Масштабное эпидемиологическое исследование, направленное на изучение психосоматических соотношений при зуде [21], показало, что пациенты с повышенным уровнем тревоги и депрессии сообщают о более интенсивном зуде. В целом наши результаты соотносятся с этими данными, поскольку в настоящей выборке было показано, что хронический зуд, сильно влияющий на качество жизни, ассоциирован с более высокими показателями и интенсивности зуда, и выраженности ассоциированных психосоматических расстройств (тревоги, депрессии, дисморфофобии), а также уровня воспринимаемого стресса.
Проведя регрессионный анализ, мы установили, что психологические факторы, в особенности дисморфофобия и уровень стресса, служат значимыми предикторами тяжести зуда у пациентов с дерматологическими заболеваниями. Отсутствие значимых порогов между кластерами 2–3 и 3–4 косвенно свидетельствует о плавном характере перехода между этими категориями тяжести, тогда как четкое разграничение между кластером 1 и остальными предполагает существование качественно иного паттерна симптоматики при хроническом зуде, не влияющем на качество жизни.
Практическое применение полученных в ходе настоящего исследования результатов предусматривает два взаимодополняющих направления. Во-первых, скрининговое обследование дерматологических пациентов должно включать оценку дисморфофобических проявлений с помощью стандартизированных инструментов (например, DCQ), что позволит выявлять группы риска развития среднетяжелых и тяжелых форм зуда. Во-вторых, разработанные регрессионные уравнения могут служить основой для создания прогностического алгоритма, оценивающего индивидуальную вероятность отнесения пациента к высоким кластерам на основании психологических показателей.
Основное методологическое ограничение исследования – его перекрестный дизайн, не позволяющий установить причинно-следственные связи между психологическими факторами и динамикой зуда. Лонгитюдные исследования с многократными измерениями переменных могли бы уточнить направленность выявленных ассоциаций.
Заключение
Предложенная в ранее опубликованной нашей статье интегративная психодерматологическая типология зуда, основанная на оценке продолжительности зуда и его влияния на качество жизни, представляется обоснованной также и в свете анализа тяжести ассоциированных психосоматических расстройств, проведенного в настоящей работе. Целесообразность выделения четырех типов зуда (1 – зуд хронический, слабо влияющий на качество жизни; 2 – зуд острый, слабо влияющий на качество жизни; 3 – зуд острый, сильно влияющий на качество жизни; 4 – зуд хронический, сильно влияющий на качество жизни) дополнительно подтверждается обнаружением значимых отличий, выявленных в данном исследовании при сравнительной психометрической оценке ассоциированных психосоматических расстройств у пациентов с различными типами зуда. Полученные результаты свидетельствуют о правомерности ранжирования выделенных четырех типов зуда по тяжести ассоциированных психосоматических расстройств следующим образом: зуд 1-го типа – легкий, зуд 2-го типа – среднелегкий, зуд 3-го типа – среднетяжелый, зуд 4-го типа – тяжелый.
Дифференциация выделенных типов зуда по степени тяжести ассоциированных психосоматических параметров позволит обоснованно выявлять пациентов, наиболее подверженных риску развития ассоциированных психосоматических расстройств и испытывающих наибольшее бремя заболевания кожи, сопровождаемого зудом. Именно эта категория пациентов потенциально нуждается в помощи междисциплинарной команды врачей и назначении эффективной противозудной терапии в соответствии с верифицированным дерматологическим диагнозом.
Дополнительная информация
Финансирование
Работа проведена без привлечения дополнительного финансирования со стороны третьих лиц.
Конфликт интересов
Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Участие авторов
А.В. Миченко – концепция и дизайн исследования, формирование групп пациентов, сбор и обработка материалов, анализ полученных данных, статистическая обработка данных, написание текста, утверждение итогового варианта текста рукописи; А.Н. Львов – концепция и дизайн исследования, анализ полученных данных, редактирование текста, утверждение итогового варианта текста рукописи; Д.В. Романов – анализ результатов, статистическая обработка данных, редактирование рукописи, утверждение итогового варианта текста рукописи; А.А. Камалов, Л.С. Круглова – редактирование текста, утверждение итогового варианта текста рукописи. Все авторы прочли и одобрили финальную версию статьи перед публикацией, согласны нести ответственность за все аспекты работы и гарантируют, что ими надлежащим образом были рассмотрены и решены вопросы, связанные с точностью и добросовестностью всех частей работы.
Благодарности
Авторы выражают благодарность тем, чей вклад в написание рукописи был недостаточен для признания их соавторами, но вместе с тем считается авторами значимым (консультации, техническая помощь, переводы и пр.).
1 На предыдущем этапе были обследованы пациенты с атопическим дерматитом (n = 106), псориазом (n = 101), акне (n = 104), меланоформными невусами (n = 105), меланомой (n = 88), кожными токсическими реакциями на фоне противоопухолевой терапии (n = 93). При проведении двухэтапного кластерного анализа для выявления естественного разбиения набора данных, описывающих зуд, на кластеры были использованы такие количественные переменные, характеризующие зуд, как интенсивность (числовая рейтинговая шкала), частота зуда (пункт 1 шкалы 5PLQ (англ. PruNet Lifequality Questionnaire – опросник «Зуд и качество жизни – 5»), влияние зуда на повседневную жизнь (пункт 2 шкалы 5PLQ), влияние зуда на общение с людьми (пункт 3 шкалы 5PLQ), влияние зуда на сон (пункт 4 шкалы 5PLQ), влияние зуда на удовлетворенность жизнью и настроение (пункт 5 шкалы 5PLQ), а также квалификация зуда как острого / хронического (менее / более 6 недель) в качестве категориальной переменной. В результате анализа с применением указанных 7 переменных все пациенты с зудом, на которых имелась в полном объеме информация по этим признакам (203 наблюдения), были разделены на четыре кластера: зуд хронический, слабо влияющий на качество жизни; зуд острый, слабо влияющий на качество жизни; зуд острый, сильно влияющий на качество жизни; зуд хронический, сильно влияющий на качество жизни [7].
About the authors
Anna V. Michenko
Central State Medical Academy of Department for Presidential Affairs of the Russian Federation; Medical Scientific and Educational Institute, M.V. Lomonosov Moscow State University; International Institute of Psychosomatic Health; Institute of Plastic Surgery and Cosmetology
Author for correspondence.
Email: amichenko@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-2985-5729
SPIN-code: 8375-4620
Scopus Author ID: 26432196800
ResearcherId: I-8787-2012
MD, PhD, Associate Professor, Department of Dermatovenerology and Cosmetology1; Dermatovenereologist2, 3, 4
Russian Federation, ul. Marshala Timoshenko 19–1a, Moscow, 121359; Lomonosovsky pr. 27–10, Moscow, 119992; ul. Neglinnaya 14–1a, Moscow, 107031; ul. Olkhovskaya 27, Moscow, 105066Andrey N. Lvov
Central State Medical Academy of Department for Presidential Affairs of the Russian Federation; Medical Scientific and Educational Institute, M.V. Lomonosov Moscow State University
Email: alvov@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-3875-4030
SPIN-code: 1053-3290
Scopus Author ID: 26432035300
ResearcherId: AAG-8980-2019
MD, PhD, Professor, Head of Department of Postgraduate Studies and Residency, Professor of the Department of Dermatovenerology and Cosmetology1; Chief Research Fellow2
Russian Federation, ul. Marshala Timoshenko 19–1a, Moscow, 121359; Lomonosovsky pr. 27–10, Moscow, 119992Armais A. Kamalov
Medical Scientific and Educational Institute, M.V. Lomonosov Moscow State University
Email: armais.kamalov@rambler.ru
ORCID iD: 0000-0003-4251-7545
MD, PhD, Professor, Academician of Russ. Acad. Sci., Director
Russian Federation, Lomonosovsky pr. 27–10, Moscow, 119992Larisa S. Kruglova
Central State Medical Academy of Department for Presidential Affairs of the Russian Federation
Email: kruglovals@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5044-5265
SPIN-code: 1107-4372
Scopus Author ID: 24168854300
ResearcherId: AAT-7922-2020
MD, PhD, Professor, Head of the Department of Dermatovenerology and Cosmetology
Russian Federation, ul. Marshala Timoshenko 19–1a, Moscow, 121359Dmitry V. Romanov
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University); Scientific Center for Mental Health
Email: newt777@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1822-8973
SPIN-code: 2412-9077
Scopus Author ID: 25650916200
ResearcherId: N-3459-2016
MD, PhD, Professor, Department of Psychiatry and Psychosomatics, N.V. Sklifosovsky Institute of Clinical Medicine5; Head of the Department of Clinical Epidemiology6
Russian Federation, ul. Trubetskaya 8–2, Moscow, 119048; Kashirskoe shosse, 34, Moscow, 115522References
- Twycross R, Greaves MW, Handwerker H, Jones EA, Libretto SE, Szepietowski JC, Zylicz Z. Itch: Scratching more than the surface. QJM. 2003;96(1):7–26. doi: 10.1093/qjmed/ hcg002.
- Ständer S, Weisshaar E, Mettang T, Szepietowski JC, Carstens E, Ikoma A, Bergasa NV, Gieler U, Misery L, Wallengren J, Darsow U, Streit M, Metze D, Luger TA, Greaves MW, Schmelz M, Yosipovitch G, Bernhard JD. Clinical classification of itch: A position paper of the International Forum for the Study of Itch. Acta Derm Venereol. 2007;87(4):291–294. doi: 10.2340/00015555-0305.
- Ständer S. Classification of itch. Curr Probl Dermatol. 2016;50:1–4. doi: 10.1159/000446009.
- Bobko SI, Tsykin AA. [Itchy skin: The current state-of-the-art]. RMJ. Dermatology. 2016;(10):606–612. Russian.
- Lvov AN, Bobko SI, Romanov D.V. [Somatoform and amplified itch]. Russian Journal of Skin and Veneral Disases. 2013;(4):39–43. Russian.
- Cevikbas F, Lerner EA. Physiology and pathophysiology of itch. Physiol Rev. 2020;100(3):945–982. doi: 10.1152/physrev.00017.2019.
- Michenko AV, Lvov AN, Kruglova LS, Paseka ME, Vorobeva DI, Romanov DV. [Clinical and psychometric substantiation of the typology of pruritus taking into account the impact on quality of life: Results of a cross-sectional observational study]. Effective Pharmacotherapy. 2025;21(12):24–31. Russian. doi: 10.33978/2307-3586-2025-21-12-24-31.
- Vrublevska J, Renemane L, Kivite-Urtane A, Rancans E. Validation of the generalized anxiety disorder scales (GAD-7 and GAD-2) in primary care settings in Latvia. Front Psychiatry. 2022;13:972628. doi: 10.3389/fpsyt.2022.972628.
- Pogosova NV, Dovzhenko TV, Babin AG, Kursakov AA, Vygodin VA. [Russian version of PHQ-2 and 9 questionnaires: Sensitivity and specificity in detection of depression in outpatient general medical practice]. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2014;13(3):18–24. Russian. doi: 10.15829/1728-8800-2014-3-18-24.
- Zolotareva AA, Kostenko VYu, Lebedeva AA, Chumakova MA. [Screening for anxiety and depression in the general population: Adaptation of the Patient Health Questionnaire-4 in Russia]. V.M. Bekhterev Review of Psychiatry and Medical Psychology. 2024;58(2):45–54. Russian. doi: 10.31363/2313-7053-2024-899.
- Zolotareva AA. [Psychometric properties of the Russian version of the Perceived Stress Scale (PSS-4, 10, 14)]. Clinical Psychology and Special Education. 2023;12(1):18–42. Russian. doi: 10.17759/cpse.2023120102.
- Khramtsova NI, Plaksin SA, Zayakin YuYu, Glushenkov AS, Fadeeva MV, Sotskov AYu, Ponomarev DN. [Body dysmorphic disorder: Some diagnostic approaches]. Perm Medical Journal. 2022;39(1):35–46. Russian. doi: 10.17816/pmj39135-46.
- Sorokin MYu. [Prevalence of social stigmatization in psychiatric patients and its correlation with motivation for treatment]. Neurology Bulletin. 2016;(2):73–77. Russian. doi: 10.17816/nb14010.
- Sanders KM, Akiyama T. The vicious cycle of itch and anxiety. Neurosci Biobehav Rev. 2018;87:17–26. doi: 10.1016/j.neubiorev.2018.01.009.
- Fontao SM, Manso P, Audije-Gil J, Gascueña DH, Dapena F, Aresté N, Sánchez-Álvarez E, Molina P, Ojeda R, Goicoechea M, Simó VE, Bezhold GA, Prieto-Velasco M, Lloret MJ, Santos AB, Buades JM, Narváez C, Sánchez-Villanueva R, Pérez-Morales RE, Jiménez MDA; Fundación Renal Española Working Group; Prurito Working Group. Quality of life and clinical data in hemodialysis patients with different degrees of pruritus. Sci Rep. 2025;15(1):6222. doi: 10.1038/s41598-024-83833-2.
- Stolz J, Salameh P, Asero R, Kocatürk E, Peter J, Grattan C, Herzog LS, Muñoz M, Dissemond J, Staubach-Renz P, Bauer A, Thomsen SF, Giménez-Arnau AM, Puertolas M, Bocquet A, Makris M, Gregoriou S, Khoshkhui M, Kouzegaran S, van Doorn MBA, Kasperska-Zajac A, Gąsior M, Zając M, Latysheva E, Fomina D, Kovalkova E, Andrenova G, Sedova E, Vitchuk A, Bizjak M, Košnik M, Kulthanan K, Tuchinda P, Day C, Deetlefs M, Aulenbacher F, Weller K, Kolkhir P, Metz M, Pereira MP. Parameters linked with higher itch severity in chronic spontaneous urticaria-chronic urticaria registry results. J Allergy Clin Immunol Pract. 2025:S2213–2198(25)00498–2. doi: 10.1016/ j.jaip.2025.05.033.
- Stefaniak A, Berek-Zamorska M, Zeidler C, Ständer S, Szepietowski JC. Chronic itch affects patients' ability to experience pleasure: Anhedonia in itchy disorders. Acta Derm Venereol. 2024;104:adv35420. doi: 10.2340/actadv.v104.35420.
- Lee J, Suh H, Jung H, Park M, Ahn J. Association between chronic pruritus, depression, and insomnia: A cross-sectional study. JAAD Int. 2021;3:54–60. doi: 10.1016/j.jdin.2021.02.004.
- Schut C, Dalgard FJ, Bewley A, Evers AWM, Gieler U, Lien L, Sampogna F, Ständer S, Tomás-Aragonés L, Vulink N, Finlay AY, Legat FJ, Titeca G, Jemec GB, Misery L, Szabó C, Grivcheva-Panovska V, Spillekom-van Koulil S, Balieva F, Szepietowski JC, Reich A, Roque Ferreira B, Lvov A, Romanov D, Marron SE, Gracia-Cazaña T, Svensson A, Altunay IK, Thompson AR, Zeidler C, Kupfer J; ESDAP Study collaborators. Body dysmorphia in common skin diseases: Results of an observational, cross-sectional multicentre study among dermatological outpatients in 17 European countries. Br J Dermatol. 2022;187(1):115–125. doi: 10.1111/bjd.21021.
- Reszke R, Szepietowski JC. Itch and psyche: Bilateral associations. Acta Derm Venereol. 2020;100(2):adv00026. doi: 10.2340/00015555-3346.
- Zeidler C, Kupfer J, Dalgard FJ, Bewley A, Evers AWM, Gieler U, Lien L, Sampogna F, Tomas Aragones L, Vulink N, Finlay AY, Legat FJ, Titeca G, Jemec GB, Misery L, Szabó C, Grivcheva Panovska V, Spillekom van Koulil S, Balieva F, Szepietowski JC, Reich A, Ferreira BR, Lvov A, Romanov D, Marron SE, Gracia Cazaña T, Elyas A, Altunay IK, Thompson AR, van Beugen S, Ständer S, Schut C. Dermatological patients with itch report more stress, stigmatization experience, anxiety and depression compared to patients without itch: Results from a European multi-centre study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2024;38(8):1649–1661. doi: 10.1111/jdv.19913.
Supplementary files